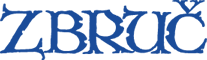(Этюда изъ жизни прикарпатскаго народа).
I.
Натерпѣвшись и холоду, и голоду въ своей жизни, старый Шлема стремился доставить своему единственному сынишкѣ Гавѣ въ будущемъ вполнѣ обезпеченное положеніе, — въ этомъ стремленіи помѣшала ему чрезмѣрная любовь къ сыну: любовь заставляла его кусать больше, чѣмъ онъ могъ проглотить, ну и подавился старикъ, оставивъ Гаву безъ крейцера, но съ завѣщаніемъ: „Гава! при всякомъ, даже малѣйшемъ, хорошемъ случаѣ въ твоей жизни всегда повторяй: слава Богу, для начала и это хорошо!
Гавѣ было двѣнадцать лѣтъ, когда умеръ его отецъ. Росъ онъ въ деревнѣ, проводя цѣлые дни въ играхъ съ своими сверстниками — деревенскими мальчишками, то на улицѣ, то въ ихъ убогихъ хатахъ, или ловилъ раковъ въ ручейкѣ.
Еще ребенкомъ онъ отличался необыкновеннымъ любопытствомъ, проворствомъ и хитростью; эти качества дали ему возможность знать о жизни мужиковъ болѣе и подробнѣе, чѣмъ десятку мужицкихъ мальчиковъ его возраста.
Послѣ смерти отца, опеку надъ Гавою приняла какая то дальняя родственница. — тетушка или бабушка, жившая въ Дрогобычѣ. Это была старая еврейка, мелкая торговка, кормившая своимъ жалкимъ заработкомъ пять душъ собственныхъ дѣтей, кромѣ которыхъ было у нея еще трое взрослыхъ сыновей, жившихъ на собственныхъ хлѣбахъ, работавшихъ на себя и даже не думавшихъ помогать матери.
Опекунша отдала Гаву „до термину“ учиться сапожному ремеслу, но Гавѣ ремесло это не понравилось. Когда на слѣдующій день по его вступленіи въ мастерскую, подмастерье, отправляя его въ шинокъ, вмѣсто денегъ на шкаликъ далъ ему подзатыльникъ, Гана, огорошенный такимъ страннымъ обычаемъ, вспомнилъ послѣднее завѣщаніе своего отца и вскрикнулъ: „Спасибо! Для начала и это хорошо!“, то „острота“ эта такъ понравилась всѣмъ подмастерьямъ, работавшимъ въ мастерской, что съ того же дня постоянно кто нибудь изъ нихъ дѣлалъ Гавѣ „хорошее начало“ то кулакомъ, то шиломъ, то шандеромъ. Недѣля, прожитая среди такихъ истязаній, довела несчастнаго мальчика до отчаянія. Онъ ушелъ отъ сапожника и со слезами на глазахъ просилъ свою опекуншу взять его обратно.
— Я и безъ этого заработаю себѣ на хлѣбъ, увѣрялъ онъ ее не безъ гордости.
— Какъ же ты заработаешь, дуракъ, когда ремесла никакого не знаешь? спрашивала та.
— Что же я, гой, что ли, вскрикнулъ Гава, чтобъ не сумѣть прожить и безъ ремесла?
Замѣчаніе это опекуншѣ показалось настолько вѣрнымъ и убѣдительнымъ, что она предоставила Гавѣ полную свободу дѣйствій, объявивъ ему, впрочемъ, что болѣе недѣли кормить его не станетъ и позволитъ ему даромъ спать въ своей комнатѣ.
— Недѣлю даромъ! съ радостью вскрикнулъ Гава, значитъ, все, что я въ эту недѣлю заработаю, будетъ мое! Благодареніе Богу, для начала и это хорошо!
II.
Гава вспомнилъ свою деревенскую жизнь на улицѣ, у ручейка, среди полей, въ лѣсу съ деревенскими мальчиками, эту жизнь привольную, полную игръ, движенія и лѣтняго воздуха; но теперь было ему не до игръ... Среди этихъ воспоминаній онъ хотѣлъ отыскать что нибудь такое, чѣмъ можно было бы теперь воспользоваться. Память ему подсказала.
Проходя ежедневно утромъ по рынку, онъ видалъ тамъ старуху, сидящую возлѣ большой корзины, наполненной живыми раками. Старуха продавала ихъ „на копы“. Гава вспомнилъ, какъ когда то искусно ловилъ онъ этихъ самыхъ раковъ, и сейчасъ же бросился распрашивать жидовъ о выгодности ихъ продажи. Такъ какъ дѣло касалось трефнаго (нечистаго), то жиды ему не отвѣчали. Пришлось обратиться къ старухѣ-торговкѣ. Она оказалась женой мельника изъ Вороблевичъ. Мужъ ея ловилъ раковъ въ городскомъ большомъ прудѣ, но обыкновенно въ городѣ было болѣе охотниковъ до раковъ, чѣмъ товара, почему она охотно согласилась покупать ихъ у Гавы, сколько у него будетъ, и платить ему по 10 крейцеровъ за копу, между тѣмъ какъ ей удавалось ихъ продавать по 15 — 20 и болѣе крейцеровъ за ту же копу. Гава и этимъ былъ доволенъ. Не теряя времени, сшилъ онъ себѣ длинный и узкій мѣшокъ съ веревкою черезъ плечи и утромъ слѣдующаго дня, захвативъ добрый ломоть хлѣба, поплелся за городъ искать мѣста, гдѣ водились раки. Но въ рѣкѣ, протекающей возлѣ Дрогобыча, ихъ было мало, — имъ вредилъ нефтяный „фузель“, стекавшій изъ фабрикъ въ воду и отравлявшій ее.
Пошелъ Гава вверхъ по рѣкѣ и наткнулся на ручеекъ, протекающій отъ деревеньки Дерижицъ среди сѣнокосовъ и возлѣ дубоваго лѣса Тептюжа.
Ручеекъ былъ маловодный, плылъ медленно, но имѣлъ много крутыхъ поворотовъ, глубокихъ и тихихъ омутовъ. Берега его почти сплошь были окаймлены лозой и ольхой, нависшими надъ самой водой и какъ бы полоскавшими въ ней свои корни. Гава даже въ ладоши захлопалъ отъ радости.
— Вѣдь это мѣстечко именно какъ будто созданное для раковъ! вскричалъ онъ.
И дѣйствительно, довольно было бросить одинъ пристальный взглядъ на дно ручейка, чтобы убѣдиться, что раковъ въ немъ видимо невидимо. Мѣстные мужики раковъ не ѣли, почему и водиться имъ тамъ было привольно. Гава готовъ былъ почти броситься на землю и цѣловать эти благословенные берега, которые считалъ уже своимъ владѣніемъ.
Немедленно сбросилъ онъ съ себя все платье, не исключая и рубашки, спряталъ все это за кустикъ, черезъ плечи повѣсилъ свои снасти и вошелъ въ воду. Спокойно, систематически, слегка покряхтывая, началъ онъ шарить руками въ рачьихъ гнѣздахъ, почти изъ каждаго вытаскивая огромнаго рака, тщетно растопыривавшаго свои клешни, махавшаго длинными щупальцами и таращившаго глаза, какъ будто недоумѣвавшаго, что это за новые порядки начались въ ручьѣ, гдѣ съ незапамятныхъ временъ никто не обижалъ ихъ породы.
И часу не прошло, какъ Гава имѣлъ уже копу раковъ.
Спустя еще часъ, мѣшокъ былъ такъ полонъ и тяжелъ, что веревка начала въѣдаться ему въ тѣло. Гава почувствовалъ голодъ и утомлоніе; къ тому же онъ отъ воды окоченѣлъ, а трава „ризючка“, росшая вдоль береговъ, рѣзала его тѣло.
— Э, довольно на сегодня! сказалъ онъ самъ себѣ и пошелъ отыскивать свою одежду, таща за собою по водѣ мѣшокъ съ раками.
— Благодареніе Богу, говорилъ онъ, одѣваясь, для начала это совсѣмъ не плохо. Считая копу только десять крейцеровъ, получу за нынѣшнюю работу болѣе, чѣмъ двадцать крейцеровъ, а на эту сумму я могу прожить цѣлую недѣлю! Э, великъ нашъ Богъ! Затѣмъ, срѣзавъ и обдѣлавъ себѣ суковатую палку, онъ привязалъ къ одному ея концу мѣшокъ съ раками и, взваливъ его себѣ на плечи, пошелъ до Дрогобыча, жуя по пути сухой хлѣбъ, данный ему теткою на весь нынѣшній день.
До города было вовсе не близко, по меныней мѣрѣ съ полмили. Для Гавы, поработавшаго въ водѣ и съ ношею на плечахъ, этотъ путь былъ даже очень далекій. Только позднимъ вечеромъ дотащился онъ до жалкой лачуги, въ которой жила его опекунша. Сначала онъ боялся, чтобъ раки не подохли безъ воды, и все время своего путешествія прислушивался къ ихъ тихому шелесту въ мѣшкѣ. Убѣдившись, что шелестъ этотъ не ослабѣваетъ, Гава одушевился. Но тѣмъ не менѣе, когда пришелъ домой и высыпалъ своихъ плѣнниковъ въ кадушку съ свѣжей водой, онъ не безъ сожалѣнія убѣдился, что почти подкопы ихъ передохло. Немногаго недоставало, чтобы Гава не расплакался въ виду такой потери. Ворочаясь на своей жесткой постели съ боку на бокъ, въ эту ночь долго онъ думалъ, какъ бы ему въ будущемъ предохранить себя отъ такого рода потерь. Но выдумать самъ не могъ онъ ничего и заснулъ съ тѣмъ рѣшеніемъ, чтобы завтра же распросить на этотъ счетъ старуху мельничиху, которой онъ подрядился доставлять свой товаръ.
III.
Раки оказались для Гавы очень важнымъ подспорьемъ въ жизни, но не надолго. Мужики, сѣнокосы которыхъ прилегали къ этому ручейку, встрѣчая его почти каждый день въ водѣ, сначала не обращали на него никакого вниманія, но, разузнавъ, что это еврей, а евреи раковъ не ѣдятъ, додумались до того, что должно быть онъ ловитъ ихъ для продажи, и запретили ему эту охоту. Нѣсколько разъ Гава пробовалъ ходить украдкой на ловлю, но, когда разъ мужики, поймавъ его, поколотили, отняли раковъ и еще хотѣли ободрать, то онъ пришелъ къ убѣжденію, что заработокъ его конченъ. Къ тому же появились опасные для него конкурренты. Мужики, видя, что этихъ презрѣнныхъ для нихъ до сихъ поръ раковъ можно превращать въ деньги, бросились сами ловить ихъ, посылая въ ручеекъ цѣлыя толпы своихъ дѣтей. День деньской притаскивали въ городъ цѣлые большіе мѣшки раковъ, такъ что вскорѣ ручеекъ совершенно опустѣлъ, и въ немъ осталась только мелюзга, вовсе не годная къ продажѣ.
Горько плакалъ Гава, не столько отъ побоевъ, сколько отъ этого перваго своего разочарованія, проклиналъ мужиковъ, пропитывался ненавистью къ нимъ, сознавая, впрочемъ, что противъ силы ничего не подѣлаешь. Другаго такого ручья вблизи не было. Оставался только одинъ исходъ - искать какого нибудь другаго заработка.
— Отчего это ты шатаешься такъ безъ всякаго дѣла, Гава?! спросилъ его разъ старый Фавель.
— Что же я буду дѣлать? сказалъ Гава.
— Тебѣ нечего дѣлать? удивился Фавель. — Это плохо, ежели не знаешь, что дѣлать. Жидъ всегда долженъ имѣть, что дѣлать.
Гава разсказалъ ему о своемъ горѣ съ раками.
— Дуракъ ты, Гава, замѣтилъ ому Фавель. — Не жидовское это дѣло ловить трефныхъ раковъ.
— Но деньги за нихъ не трефныя, возразилъ Гава. — Я прожилъ на нихъ слишкомъ два мѣсяца, и еще успѣлъ сберечь цѣлыхъ два гульдена.
— Цѣлыхъ два гульдена! вскрикнулъ Фавель. — Э, такъ ты богачъ! Послушай, Гава, сказалъ онъ, подумавъ немного, пойдемъ со мной по деревнямъ на заработки...
— Какой же у васъ заработокъ?
— Ты не знаешь, какой у меня заработокъ? — „Щетыны, кожушыны, волосины“, — вотъ что я покупаю. И ты будешь со мною въ комнаніи. Придемъ въ село, ты возьмешь одну его сторону, я возьму другую; ты будешь покупать на свой счетъ, а я на свой...
— Ну, а когда накупимъ, что тогда?
— Я тебя научу, что тогда дѣлать, кому и какъ продавать.
— У, а ежели это плохой гешефтъ?
— Не бойся, дуракъ! Старый Фавель не дастъ тебѣ худаго совѣта и обманывать тебя не станетъ. Я вижу, что ты, хотя малъ, но ловкій парень, и думаю, что тебѣ же лучше заработать что нибудь, чѣмъ здѣсь по городу топтать мостовую. Пойдемъ!
— Скажите прежде, сколько вы можете въ недѣлю этакъ заработать?
— Какъ случится, Гава. Можно заработать гульденъ, а можно и десять, не считая харчей.
Глаза Гавы блеснули дикимъ огнемъ, когда онъ услышалъ о возможности заработать въ недѣлю десять гульденовъ. Какія ужасныя деньги! Нерѣшительность его пропала сразу.
— Хорошо, рѣшилъ онъ, пойду съ вами! Когда пойдемъ?
— Завтра.
— - Хорошо, пойду завтра. Только знаете что, ребъ Фавель? Въ воскресеніе мы должны будемъ быть здѣсь опять...
— Я возвращаюсь обыкновенно въ пятницу, а иногда бываю въ городѣ два раза въ недѣлю.
— А въ понедѣльникъ мы должны оставаться въ городѣ.
— Для чего же это?
— Для того, что я въ понедѣльникъ здѣсь придумалъ еще одинъ гешефтъ...
— Вотъ ка-а-а-къ! протяжно сказалъ Фавель, бросивъ на Гаву полный удивленія къ его энергіи, пристальный взглядъ.
IV.
Всю недѣлю проходилъ Гава съ Фавелемъ по деревнямъ, выкрикивая подъ окнами хатъ: „щетыны, кожушыны, волосыны“! Защищался онъ отъ деревенскихъ собакъ толстой палкой, торговался съ мужиками, какъ старый, привычный къ этому торгашъ, и съ завистью поглядывалъ на мужицкихъ дѣтей, свободно играющихъ на вольномъ просторѣ. Время тогда было рабочее, торговля шла вяло, и оба они съ очень скромной добычей возвратились въ пятницу вечеромъ въ Дорогобычъ. Свиную шерсть занесъ Гава къ щетиннику и продалъ ее хорошо, прочій же товаръ купилъ у него самъ Фавель; весь недѣльный заработокъ за вычетомъ прокормленія не далъ даже гульдена. Гава покривился.
— Не бойся, дуракъ! сказалъ Фавель. — Чего же ты хотѣлъ? Теперь лѣто, полевыя работы, а наша торговля только зимой развертывается. Зимой мужикъ свиней рѣжетъ, тогда и шерсти у него довольно, иногда же и шкурку изъ куницы, барсука или зайца за самую ничтожную цѣну удается купить,- — вотъ тебѣ и гешефтъ! Но Гава уже не слушалъ. Для него это было будущее, онъ же заботился о настоящемъ. На завтра, хотя это былъ шабашъ, онъ пошелъ на спичечный заводъ и купилъ оптомъ за гульденъ спичекъ и отдѣльно спичечныхъ коробочекъ. Немедленно, несмотря на праздникъ и брань своей опекунши, уважавшей обычаи шабаша, принялся онъ наполнять пустыя коробочки спичками, уравнивая на ихъ счетъ полныя. Работалъ онъ не спѣша, съ расчетомъ, и къ вечеру воскресенья имѣлъ уже полныхъ 150 коробочекъ, вмѣсто купленныхъ 100, по крейцеру каждая.
Наступилъ понедѣльникъ, базарный день въ Дорогобычѣ. Гава захватилъ свои спички, бросился на базарную площадь, уставленную мужицкими возами, и выкрикивалъ изо всей силы:
— Сирныки свижи, сирныки!
Для площади это была новинка, почему вскорѣ окружили его и бабы, и мужики. Хотя невдалекѣ на „пидсинню“ было много лавочекъ со спичками и всякою нужною въ хозяйственномъ обиходѣ мелочью, но все таки товаръ его шелъ на расхватъ. Одинъ не хотѣлъ уходить отъ воза, изъ боязни, чтобы кто нибудь чего не стащилъ; другой покупалъ потому, что на „пидсинню“ большая давка, здѣсь же и выбрать, и разсмотрѣть удобнѣй; третій покупалъ просто потому, что другіе покупаютъ. Къ вечеру Гава распродалъ всѣ свои спички и заработалъ 50 крейцеровъ на гульденъ.
— Ну, слава Богу, сказалъ онъ, — для начала это даже очень хорошо!
Съ этихъ поръ торговля его распалась на двое. Всю недѣлю ходилъ онъ съ Фавелемъ по селамъ, покупая щетину и шкурки, а въ понедѣльники бѣгалъ но базару со спичкаии. Со временемъ эта базарная торговля его распространилась сама собой.
— А не маешъ ты батогивъ, жыдыку? спросилъ Гаву разъ мужикъ, которому онъ предлагалъ свои спички.
— Батогивъ? переспросилъ Гава. — На що батогивъ? Ему казалось, что мужикъ потѣшается надъ нимъ.
— Якъ то на що? На продажъ. Купивъ бымъ, а не хоче ми ся йты на пидсиння.
— А видки я маю маты батоги?
— Якъ то видки? Жидъ усе повиненъ маты.
Эти слова Гава твердо запомнилъ.
— Знаете шо, нанашку *? сказалъ онъ, подумавъ немного. Зачекайте хвылыну, заразъ вамъ будутъ батогы.
И онъ мигомъ побѣжалъ на „пидсинне“ и купилъ съ полдюжины батоговъ на выборъ, конопляныхъ и ременныхъ. Продалъ ихъ въ этотъ день безъ прибыли, потому что не могъ брать дороже, чѣмъ брали на „пидсинни", а и тамъ не хотѣли ему продать дешевле, чѣмъ остальнымъ. Но въ головѣ бойкаго мальчика уже созрѣла мысль — докопаться до источника, изъ котораго продавцы на „пидсинни“ получали эти батоги, а съ ними и свои барыши, и тамъ продѣлать такой же гешефтъ, какъ и со спичками, и съ тѣмъ же успѣхомъ.
У.
Прошла зима, прошелъ и цѣлый годъ среди такой работы. Гава не жалѣлъ ни ногъ, ни рукъ, ни глотки, но и заработывалъ такъ, что даже не одинъ еврей и постарше его ему завидовалъ. Между тѣмъ этотъ заработокъ уже не удовлетворялъ его; болѣе всего злила Гаву конкурренція, которая какъ будто шла за нимъ по пятамъ. Теперь уже всякій понедѣльникъ множество маленькихъ жиденятъ разбѣгалось по городу со спичками, батогами, мазью для телегъ и всякою мелочью; заработокъ оскудѣвалъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ обманъ, почти грабежъ, дѣлался все наглѣе и наглѣе, что отбивало и покупателей. Гава долженъ былъ искать новыхъ доходныхъ статей.
Съ давнихъ поръ обращалъ на себя его вниманіе старикъ въ старосвѣтскомъ мѣщанскомъ уборѣ, какой носятъ еще кой гдѣ въ малыхъ, глухихъ городишкахъ. Всякій понедѣльникъ онъ являлся на базаръ съ чепцами, бѣлыми и зелеными, очень красивой домашней работы. Носилъ онъ палку съ колокольчикомъ, прикрѣпленнымъ на верхнемъ ея концѣ, среди разноцвѣтныхъ лентъ; нѣсколько ниже на деревяныхъ гвоздяхъ, вбитыхъ въ палку, понавѣситъ, бывало, старичекъ на зеленыхъ веревочкахъ эти чепцы и идетъ по тротуару, что кругомъ рынка, держа палку, поднятую высоко надъ толпой людскихъ головъ и встряхивая ею отъ времени до времени, но никому не говоря ни слова. Были у него покупщики, но мало. Старикъ былъ очевидно меланхолически настроенъ, до разговоровъ не охотникъ и не любилъ торговаться. Первое его слово было всегда и послѣдней цѣной его товара.
— А шо, матуню, спросилъ однажды Гава у какой то женщины, которая только что купила чепецъ у этого человѣка, совсѣмъ не торгуясь, — добри чепци той чоловикъ продае?
— Хто, Старомиськый? О, нема надъ его чепци. Оденъ на десять литъ выстане. Я се для невисткы купыла. Не першый разъ у него беру, и цина у него все однакова.
— А чому жъ у нёго такъ мало купують?
— Або я знаю? Во не жыдъ. До жыдивъ уси йдуть и беруть послидне дранте, та ще й наторгуватыся мусять до сёмого поту, закы за таку саму цину дистануть.
Гава скоро рѣшился и подошелъ къ мѣщанину.
— Щасты вамъ, пане Старомиськый! сказалъ онъ, кланяясь.
Старикъ удивленными глазами взглянулъ изъ подъ нависшихъ бровей на жалкаго, ободраннаго жидка, здоровавшагося съ нимъ, какъ будто съ старымъ знакомымъ.
— Тьфу на твого батька клапчастого, говорилъ онъ, отплевываясь, а ты видкиля мене знаетъ?
— Ны, пане Старомыськый, хто бы васъ не знавъ. Васъ, Богу дякуваты, вси знають. А по чому чипчыкы продаете?
— По двадцить новыхъ, або шо?
— Бо я бы хотивъ у васъ купыты.
— Агу, а тоби на що? Чы для матеры твоей лысой?
— Для матеры, або й не для матеры, а вамъ шо до того? Килько ихъ ту маете?
— Ще висимъ, або що?
— Ны, яки жъ бо вы! Висимъ по двадцить новыхъ, то шиснацить шистокъ. А шо спустыте, якъ уси визьму?
— Тю на твою голову паршыву! А на що тоби всихъ?
— Шо спустыте, якъ уси визьму? настаивалъ Гава, улыбаясь.
— Та видчепысъ ты видъ мене! закричалъ Старомиській. — Я не твий дурень, щобы ты соби зъ мене кпы робывъ.
— Ны, ны, хочете дванацять шистокъ? Ни? Отъ вамъ трынацять за вси наразъ, готовыми гришмы. Чого вамъ треба? Маете волочытыся зъ нымы ще тры понедилкы, то чы не липше вамъ видразу готови гроши взяты?
Старикъ, не довѣряя происходящему, задумался. Такой продажи ему еще не случалось дѣлать. Въ семьѣ его держался этотъ промыселъ съ незапамятныхъ временъ какимъ то особеннымъ, старосвѣтскимъ обычаемъ. Дѣдъ его и отецъ, люди довольно зажиточные, занимались этимъ промысломъ только иногда, между дѣломъ, плели чепцы „на обсталюнокъ“ и никогда ихъ не носили въ городъ продавать, у него же вышло нѣсколько иначе. Раздѣливъ предковскую землю между своими двумя сыновьями, зажившими всякій про себя хозяинами, хотя довольно бѣдными, старикъ Стромійскій со старухой остались въ своемъ старомъ гнѣздѣ, да еще и не сами; у нихъ было еще три дочери, здоровыхъ, хорошо сложенныхъ и миловидныхъ: у всѣхъ у трехъ ноги были совсѣмъ неразвиты и безсильны, такъ что онѣ только съ большимъ трудомъ и медленно могли передвигаться съ мѣста на мѣсто. Эти бѣдныя обиженныя созданія какъ будто нарочно были предназначены для усидчиваго труда, какой дѣйствительно и выпалъ имъ на долю. Хорошія швеи, онѣ своимъ трудомъ зарабатывали не только на свое собственное пропитаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и поддерживали своихъ родителей. Въ минуты отдыха онѣ плели тоже чепцы, помогая въ томъ отцу, мать же ихъ работала или въ маленькомъ огородникѣ, что возлѣ хаты, или возилась съ коровой и др. домашней живностью. Когда же чепцовъ набиралось готовыхъ нѣсколько паръ, отецъ отправлялся съ ними въ ближайшіе города, ходилъ съ одного базара на другой, выручая съ продажи, за вычетомъ собственныхъ издержекъ, деньги, рѣдко превышавшія 20 или 30 крейцеровъ. Рѣдко удавалось ему распродать весь вынесенный на базаръ товаръ, а теперь ни съ сего, ни еъ того какой то дрянный жиденокъ покупаетъ все сразу!
— Давай четырнадцать! сказалъ онъ.
— Ны, дай Боже добрый початокъ! сказалъ Гава и отсчиталъ деньги. Але давайте все, зъ лискою.
— А лискы тоби на що?
— На щастя!
— Тьфу на твою голову! Беры й лиску, тильки за дзвинокъ десять крейцеривъ верны.
— Знаете, що? сказалъ Гава. Заждить вы ту въ тынку, я вамъ лиску заразъ принесу. Я тильки такъ, въ позыку еи визьму.
— Ну, добре, пробормоталъ Старомійскій и отправился въ шинокъ, чтобъ выпить стаканъ пива послѣ такой удачной продажи. Одурывъ мене, проклятый жыдъ! бормоталъ онъ самъ про себя, сидя за столомъ. И чипци за собачи грошы купывъ, и ще й лиска вразъ изъ дзвинкомъ пропаде.
Но бормоталъ онъ это неувѣренно, такъ только, чтобъ времени не терять, потому что на самомъ дѣлѣ былъ доволенъ продажей, а палки нечего было жалѣть, — палка была обыкновенная, изъ дикаго орѣшника, и колокольчикъ не особенный, маленькій...
Между тѣмъ Гава, получивъ въ свои руки чепцы съ палкой, мигомъ очутился на базарѣ сначала между возами, потомъ бросился на базарныя площади и наконецъ по „пидсиннямъ“ и вездѣ надѣлалъ такого шуму, восхваляя свой товаръ, что народъ началъ стекаться вокругъ него, какъ будто онъ привелъ медвѣдей. Не прошло и полчаса, и Гава распродалъ чепцы не по 20, а по 25 крейцеровъ.
— Доброго вамъ здоровля, пане Старомійськый! — съ такимъ возгласомъ влетѣлъ онъ въ шинокъ. Отъ вамъ ваша лиска!
— А чипци де? спросилъ Старомійскій.
— Якъ то де? Занисъ до дому. Знаете що, може выпьете ще склянку пыва?
— Та выпыты бъ то чоловикъ выпывъ, але грошей дасть Бигъ. Треба ще нытокъ на нови чепци купыты.
— Ны, выпыйте за мои гроши. А я вамъ за той часъ буду шось казати.
— Тьфу на твого батька запливомизького! Чы помана якась учепылась мене ныни зъ тымъ жыдюгою? бормоталъ Старомійскій, но улыбался на этотъ разъ совсѣмъ ужъ добродушно, покуда Гава заказывалъ пиво. — Ну, що жъ тамъ таке маешъ мини казаты? Кажы!
— Хотивъ я васъ запытаты, чы багато вы такыхъ чипцивъ на тыждень можете зробыты?
— Якъ до потребы. Звычайно, робымо десять. Але якъ бы тилько ныткы, то мы моглы бы зробыты й сорокъ, и пятьдесятъ. Можна бы вси тры дочкы до роботы засадыты, ще й стару до помочы. Тилько бида, що мало продаемо, то на якого чорта ихъ и робыты такъ много?
— Знаете то, зробить вы для мене на другый понедилокъ пять- десять! Я видъ васъ уси куплю. По 15 крейцеровъ за кождый.
— Эге — ге, дешево бъ ты хотивъ!
— Ны, але жъ я беру вси наразъ, то такожъ шось значыть. Не потребуете по ярмаркахъ волочытысь. Ничого васъ те не обходыть, чы буде добрый торгъ, чы ни — вы маете свое. А я ще чы продамъ, чы не продамъ, то тилько Богъ знае.
— Ну, вже бо то ты та не продавъ! Твій предокъ Юда Скарыотськый и Христа продавъ, а ты бъ чипца не продавъ! Ни, серденько, дай по висимнадцять за чепець, та й згода.
— Ало жъ змылуйтеся, пане Старомійськый! взмолился Гава, — сами бачыте, я бидный жыдокъ, самъ неразъ не маю, що исты, а вамъ заробокъ даю. Ны, нехай буде по шиснадцять! Колы хочете, то й завдатокъ вамъ дамъ, щобы сте малы за шо нытокъ накупыты. А знаете шо, робить по половыни, — половыну чипцивъ билыхъ, а половину зеленыхъ, бо въ де якыхъ селахъ носятъ били, а зеленыхъ не купують.
— Колы жъ бо зелена нытка мицнійша, отвѣчалъ простодушно Старомійскій.
— Вотъ старый дуракъ! подумалъ Гава. Когда бъ я зналъ, что тѣ крѣпче, а эти слабѣе, то не дѣлалъ бы и не продавалъ бы крѣпкихъ совсѣмъ. Вѣдь это мнѣ же убытокъ. Развѣ эта баба не говорила, что одинъ чепецъ десять лѣтъ носитъ? А это значитъ, что въ эти десять лѣтъ другаго не купитъ. Тьфу на такую глупую голову!
И добавилъ вслухъ громко.
— Вы вже про те не дбайте, котри мицнійши, а котри слабши, а робить такъ, якъ я васъ прошу. Я знаю, шо ваша робота добра, побачу, якъ пиде розпродажъ. А якъ пиде добре, то мы зъ вамы зробымо таку згоду, що вы будете соби помаленьку плесты и гроши загрибаты, а я буду розпродуваты. Вы позбудетеся клопоту, а може шо й для мене капне.
— Чы ще бы такому шпекулянтови не капнуло! молвилъ Старо- мійскій и потрепалъ Гаву по плечу. Тебе певно маты въ сами кучкы вродыла та й ще въ слотави, и пидъ самымъ оканомъ поклала, то вже тамъ на тебе добре накапало, не бійся!
Ударили по рукамъ, и Гава немедленно далъ Старомійскому въ видѣ задатка тотъ самый гульденъ, который только что заработалъ на его чепцахъ. Въ слѣдующій же понедѣльникъ, получивъ цѣлую полсотню чепцовъ, онъ ихъ на базарѣ болѣе не продавалъ, а отправился съ ними по селамъ, и тамъ то продавалъ ихъ, то обмѣнивалъ, давая въ придачу и свой товаръ, и рѣдко изъ какой хаты не выходилъ съ хорошимъ барышемъ.
VI.
— Ну, диты! воскликнулъ Старомійскій, входя въ свою убогую избу, — тиштесь, давъ намъ Богъ щасте!
— Богу дякуваты! отвѣтила Старомійская, старая, покрытая морщинами женщина! Богу дякуваты! А яке щасте?
Старомійскій, не говоря ни слова, вытащилъ изъ своей кожаной сумы нѣсколько большихъ свитковъ полушелковыхъ нитокъ, затѣмъ нѣсколько локтей разноцвѣтныхъ лентъ и блестящихъ стекляныхъ бусъ — для „дѣтей“.
— На, маете! воскликнулъ онъ торжественно, раскладывая всѣ эти сокровища на столѣ. Мать и „дѣти“ только глаза вытаращили.
— А то що? А то видки? спросили въ одинъ голосъ всѣ три дѣвушки.
— Ага, видки? Видъ жыда.
— Ну, знаемо, що не видъ вовка. Але за яки гроши?
— За жыдивськи.
— Та бо говоры на розумъ! перебила старуха. Де чипци?
— Продани вси до ’дного. И не досыть на тимъ. На другый понедилокъ мае буты готовыхъ ще пятьдесятъ штукъ, и мусыть буты готовыхъ, абы ту незнать що. Я вже завдатокъ взявъ, цилого рымського.
— Пятьдесятъ штукъ! вскрикнули всѣ четыре женщины. — А то для кого стилько чипцивъ потрибно?
— Певно десь циле село дивчатъ наразъ замужъ иде, шутила старшая дочь.
Старомійскій разсказалъ свое приключеніе съ жидкомъ въ Дрогобычѣ.
— Эй, старый! Задумчиво произнесла Старомійская, вважай тилько, щобъ тебе той жыдокъ въ дурни не пошывъ!
— Якъ мене мае пошыты? воскликнулъ Старомійскій. Я його можу пошиты, бо — мъ узявъ видъ нёго рымського завдатку. А винъ що мини може зробыты?
— Може взяты чепци и не заплатыты.
— Го — го, на таку полову мене не зловыть! Положи гроши, то й беры товаръ, така въ мене встанова.
— Але жъ ты не знаетъ, хто винъ и що винъ, то якъ же жъ можешъ заходыты зъ нымъ у дило?
— А мини що до того, хто винъ и що винъ! Нехай тилько роботу дае и гроши платыть! А тамъ нехай буде соби й чортъ лысый, щобъ тилько мы чесно свое дило зробылы.
— Бійся Бога, чоловиче, що се ты выговорюошъ! воскликнула старуха, набожно крестясь, и уже болѣе на счетъ жида не дѣлала никакихъ замѣчаній.
Немедленно вся семья Старомійскихъ принялась за станки. Всю недѣлю, какъ на машинѣ, шла работа. Всѣ сидѣли, не разгибая спинъ, не досыпая ночей, едва поспѣвая отдохнуть нѣсколько минутъ и то во время обѣда и ужина.
Единственнымъ развлеченіемъ бѣдныхъ дѣвушекъ при этой однообразной и скучной р аботѣ служили пѣсни. Онѣ пѣли безъ умолку, изливая въ пѣсняхъ свою наболѣвшую душу. Тутъ слышалось сожалѣніе о невозможности наслаждаться въ юности жизнью, о невозможности вращаться въ этомъ бушующемъ и блестящемъ водоворотѣ, который шумно проносился мимо нихъ и изъ котораго онѣ, какъ имъ казалось, навсегда были исключены, подобно вѣткѣ, занесенной бурею далеко въ море и выброшенной затѣмъ водоворотомъ на сухой и каменистый берегъ.
Старый же отецъ подъ звуки ихъ пѣсенъ, какъ дитя, строилъ розовые планы.
— Не бійтеся, диты! говорилъ онъ. Якось то Бигъ дасть, буде колысь и на нашій улыци празныкъ. Пождить лышень! Сего тыжня заробымо висимъ рымськыхъ, другого тыжня висимъ, що — тыжня висимъ — Сусе Хрысте! Килько жъ то за рикъ буде! Пятьдесятъ тыжнивъ по висимъ рымськыхъ — то жъ то цилы чотыры соткы. А намъ же пры тимъ, що маемо, на ввесь рикъ на жыте и вси потребы й одной соткы ажъ занадто буде. То тры соткы будемо моглы готовыми до скрыни зложыты- — розуміете, що то значить?
— Э, чы дасть то ще Богъ нашому теляти вовка спійматы! задумчиво произнесла Старомійская. — Лишне бы то, старый, рахуваты то, що въ рукахъ маешъ, а не те, що ще въ жыдивській кышени сыдыть.
— Мовчы, стара! Не зъ тобою говорятъ! воскликнулъ онъ съ комической строгостью. — Я ту хотивъ нашій Марынци щось сказаты про одного такого пройдысвита, що то называеся Андрусь Тыхый.
— О, также щось! воскликнула старшая дочь, покраснѣвъ до корней волосъ. — Що винъ вамъ за пройдысвитъ такый удайся!
— О, выдышъ, якъ за нымъ обстае! шутилъ Старомійскій. А чымъ же но пройдысвитъ, колы покинувъ ридну оселю и десь ажъ за десяту межу забигъ, до Добромыля, доли шукаты? А якъ забигъ, то вже й николы не навидаеся.
— Та до кого ему ту навидуватыся? живо возразила Марынця, низко, низко склонивъ краснѣющее лицо надъ столикомъ и работая съ удвоенною, нервною скоростью.
— Ни до кого навидуватыся! воскликнулъ съ комическимъ сожалѣніемъ отецъ. Не вже такы ни до кого? Нихто его не дожыдае? Нихто про его не згадуе? Марынцю, а?
Вмѣсто отвѣта на эту шутку горячія слезы крупными каплями покатились на зеленую шелковую ткань.
— Бийся Бога, Марынцю! воскликнулъ съ испугомъ отецъ, — ты плачетъ? Цыть, дытыно моя! Я жъ не хотивъ тоби ничымъ докорыты. Протывно, я хотивъ тоби сказаты добру новыну.
Дѣвушка подняла на него свои большіе, еще блестящіе отъ слезъ глаза.
— Яку тамъ новыну?
— А таку новыну, що твий Андрусь добру службу найшовъ. Оноди я здыбавъ его въ Добромыли. Каже: служу у попивъ, у Васылянъ. И добре платятъ, ще й збоку де що заробыты можна. За пивъ року, каже, ждить мене въ своий хати! Розумиешъ, що се значыть?
Марынця поняла прекрасно, но не отвѣчала ни слова, только щеки ея зардѣлись густымъ румянцемъ и въ глазахъ заигралъ веселый огонекъ.
Этотъ Андрусь, о которомъ шла рѣчь, былъ убогій сирота — батракъ. Служа у хозяина, ближайшаго сосѣда Старомійскихъ, онъ очень часто заглядывалъ въ эту ветхую, покосившуюся, но все таки опрятную и какъ то особенно привѣтливую для него хату. Вскорѣ отецъ съ матерью подмѣтили, что большіе глаза и тихіе, задушевныя рѣчи старшей ихъ дочери Марысци дѣлали для Андруся ихъ хату еще привѣтливѣе и теплѣе. Марынця, несмотря на свои недоразвитыя ноги, была красивой дѣвушкой. Ея физическій недостатокъ и сидячая жизнь придали ея характеру особенную сосредоточенность, мягкость и вдумчивость; жизнь еще не успѣла выработать въ ней того озлобленія, которое бываетъ самымъ печальнымъ удѣломъ всѣхъ обиженныхъ природой. Андрусь часто бывалъ у Старомійскихъ, помогалъ иногда старухѣ въ ея занятіяхъ по хозяйству и когда окончился срокъ его службы, то между нимъ и Марынцей все дѣло ихъ будущей жизни втихомолку было обдумано и улажено. У Андруся былъ небольшой участокъ собственной, батьковской земли, „батькивщына“, на которомъ при нуждѣ можно было, съ грѣхомъ пополамъ хозяйничая, хлѣбъ ѣсть, но Андрусь не прельщался этимъ. Ему не хотѣлось быть плохимъ хозяиномъ, на мелкомъ участкѣ.
— Що я буду на такому клаптыку робыты? толковалъ онъ Марынци; — ни я господаръ, ни я жебракъ. Липше я ось що зроблю: мини ще два рокы чекаты, покы видъ рекруччыны буду вильный и женытыся зможу. Такъ отъ я ще ти два рокы послужу добрымъ людямъ, а землю за той часъ у оренду виддамъ, якъ и доси. А якъ не визьмуть мене до вийська, тоди землю оту продамъ, доложу де що зъ того, що заслужу, куплю добрый визъ, пару коней и визьмуся до зарибку, до фирманкы. Теперъ, чуты, мають по пры наши миста колею зелизну весты, то заробокъ пры ній дуже добрый бувае. Пры будови песокъ, каминне, дерево и всяку всячыну довозыты, а й потому до машины то збиже, то дерево, то що разъ на разъ довозыты треба. Я се дило знаю, въ Перемышли тры рокы пры такій роботи бувъ и добре до всего прыдывывся.
Уходя изъ Стараго Мѣста, Андрусь объяснилъ родителямъ Марынци свое желаніе жениться на ней и разсказалъ имъ свои планы на будущее. Предложеніе его было принято стариками, такъ какъ его знали, какъ хорошаго работника и добраго, смирнаго „дытыну“.
Марынця дожидала его съ тоской, силу которой и постоянность можетъ понять только узникъ или больной. Новый заработокъ, такъ неожиданно и въ такомъ значительномъ размѣрѣ доставленный имъ Гавою, усилилъ надежду тою мыслью, что и она своимъ трудомъ тоже будетъ въ состояніи помочь осуществленію своей завѣтной мечты и обезпеченію благосостоянія семьи. Бѣдная дѣвушка всякое утро и всякій вечеръ молилась Богу о своемъ неизвѣстномъ, но великодушномъ благотворителѣ. Молилась о номъ и вся семья Старомійскихъ. Молодой, здоровый и къ тяжелому труду способный мужчина былъ крайне необходимъ въ этой хатѣ, населенной старыми и недужными, онъ внушилъ бы всѣмъ новую жизнь, новыя надежды. Младшія сестры съ самаго начала сближенія Андруся съ Марынцею радовались будущему счастью своей сестры, считая его какъ будто задаткомъ своего собственнаго счастья. Чепцы поспѣвали подъ ихъ пальцами и сходили со станковъ съ неимовѣрной быстротой. Головамъ, которымъ когда то суждено носить ихъ, навѣрное никогда даже во снѣ не явятся эти тихія, радужныя надежды, мечты, опасенья и молитвы, которыми сопровождалось ихъ плетеніе изъ тонкихъ нитокъ, всякій узелокъ, всякое мастерски связанное „очко“. Даже старуха Старомійская подъ вліяніемъ всеобщаго подъема чувствъ какъ будто помолодѣла и выпрямила нѣсколько свой сгорбленный станъ.
VII.
Прошла недѣля, — все шло, какъ нельзя лучше. Чепцы были готовы. Старомійскій вручилъ ихъ Гавѣ, получилъ деньги, получилъ заказъ на новыхъ пятьдесятъ чепцовъ и задатокъ на матеріалъ и въ очень радостномъ настроеніи вернулся домой. Работа закипѣла вновь.
Въ слѣдующее воскресеніе къ нему явились неожиданные гости. Самъ благодѣтель ихъ Гава появился въ ихъ хатѣ. Увидя жалкаго, оборваннаго и запыленнаго жидка, Старомійская хотѣла дать ему ломоть хлѣба, думая, что это попрошайка, но въ эту самую минуту мужъ ея узналъ Гаву, вскочилъ съ постели, на которой отдыхалъ послѣ обѣда, и обнялъ Гаву, какъ сына.
— То ты, Гаво? А ты що ту робышъ?
— А що маю робыты? Прыхожу васъ видвидаты. Маю ту гешефты, то й думаю: давай, зайду за однымъ заходомъ и до Старомійського.
— Маешъ ту гешефты? Ту, въ Старимъ Мисти? А яки жъ ты ту зъ Дрогобыча можешъ маты гешефты?
Гава улыбнулся.
— Отъ такъ соби! отвѣчалъ, наклоняя голову, — наши, жыдивськи гешефты. Ны, а чипци готовя?
— А якъ же? Готови и спаковани. Власне мавъ я по полудни зъ нымы до городу рушаты.
— Ну, то не потребуете рушаты, я соби самъ заберу.
— А якъ же йде розпродажъ?
— Отъ яко-тако, небрежно отвѣчалъ Гава. — Клопочу багато, а пожытку мало.
— Хто бы тамъ тоби вирывъ! А въ тимъ що жъ, ты молодый, то й поклопотатыся тоби не завадыть.
Гава недолго разговаривалъ съ Старомійскимъ, но все время тщательно присматривался къ его хатѣ и домашней семейной обстановкѣ, взялъ чепцы, уплативъ за нихъ деньги, заказалъ новую партію на слѣдующій понедѣльникъ и просилъ Старомійскаго принести ихъ ему въ Самборъ. Старомійская смотрѣла на все это и не могла отъ удивленія придти въ себя; когда же Гава объявилъ, что долженъ уходить, она изъявила ому благодарность всей семьи тѣмъ, что дала ему на дорогу шесть свареныхъ яицъ, которыя Гава принялъ съ нескрываемой радостью.
Гава не безъ умысла предпринялъ это недалекое путешествіе изъ Дрогобыча въ Старое Мѣсто. Проходя изъ деревни въ деревню, торговалъ онъ чепцами, лентами, бусами, покупалъ шерсть, шкурки куницъ, зайцевъ и выдръ, присматривался и разспрашивалъ, гдѣ и какими промыслами мужики занимаются, и все это укладывалъ въ своей памяти, какъ въ шкатулку, изъ которой при обстоятельствахъ можно и должно будетъ извлекать хорошія деньги.
Особенно же на этотъ разъ хотѣлъ онъ присмотрѣться къ домашней жизни Старомійскаго, развѣдать о его обстоятельствахъ семейныхъ и имущественныхъ и соотвѣтственно найденному имъ устроиться такъ, чтобы эту золотую нить ни подъ какимъ видомъ но упустить изъ своихъ рукъ. Старый Фавель во время ихъ длинныхъ путешествій по деревнямъ преподавалъ ему при всякой оказіи благіе совѣты, какъ поступать съ мужиками. И самого Гаву на счетъ сметливости природа не обидѣла. Теперь уже, несмотря на свой юный возрастъ, онъ чувствовалъ въ себѣ довольно силы, чтобы превзойти своего наставника, и подчасъ съ сожалѣніемъ смотрѣлъ онъ на старика Фавеля, который, несмотря на свой умъ и опытъ, на шестидесятомъ году жизни былъ такъ же бѣденъ, какъ Гава на шестнадцатомъ.
Отъ старомѣстскихъ евреевъ Гава безъ затрудненій узналъ всю исторію и всю подноготную стараго „чипчаря“, узналъ даже объ его намѣреніи выдать дочь, разузналъ все, что было нужно, на счетъ будущаго зятя и, возвращаясь пѣшкомъ въ Дрогобычъ, старался всѣ эти свѣдѣнія разработать въ своей головѣ и составить себѣ опредѣленный планъ для дальнѣйшихъ дѣйствій. Прежде всего фактъ былъ тотъ, что чепцы раскупались очень хорошо. Гава не продавалъ ихъ поблизу Дрогобыча, но разсылалъ ихъ небольшими партіями по двадцати и болѣе штукъ въ Стрый, Сколе, Турку, Борыню, Комарню, Рудки и другіе городки тамошнимъ купцамъ за наличныя деньги. Товаръ нравился и онъ получалъ все новые и новые заказы. Весь гешефтъ съ чепцами всякую недѣлю давалъ ему пять гульденовъ чистаго барыша при весьма незначительныхъ хлопотахъ и издержкахъ. Значитъ дѣло это было такого рода, что выпускать его изъ рукъ отнюдь не слѣдовало.
Съ другой стороны Гава разсуждалъ, что ежели допустить семью Старомійскихъ стать на собственныя ноги, то очень легко можетъ случиться, что семья эта выскользнетъ изъ его рукъ или какой нибудь другой еврей перебьетъ ему заработокъ. Особенно безпокоилъ его будущій зять, парень трудолюбивый и энергическій.
— Хорошо было бы, ежели бъ онъ пропалъ куда нибудь къ черту въ зубы или вотъ ежели бъ его въ солдаты взяли, ворчалъ Гава. Но въ тотъ моментъ вспомнилъ, что этотъ будущій зять прослужилъ уже урочные три года въ солдатахъ, и пропадать ему болѣе некуда и не за чѣмъ. Надо было помириться съ фактомъ, и этотъ процессъ совершился въ умѣ Гавы съ замѣчательной быстротой.
— И въ чемъ собственно онъ можетъ мнѣ помѣшать? воскликнулъ онъ почти весело. Бѣднякъ, нищій, къ такимъ же нищимъ и пристанетъ, и что же изъ этого выйдетъ? Будетъ зарабатывать извознымъ промысломъ, — мы знаемъ, сколько онъ тамъ заработаетъ! И какой это заработокъ: сегодня есть, а завтра поминай какъ звали. А когда заработка не станетъ, можно будетъ и его вмѣстѣ съ остальными прибрать къ рукамъ. Это, пожалуй, даже еще лучше для меня. Работу какую нибудь и для него подыщемъ. Хорошо, пусть и такъ будетъ. Пусть женится, пусть идетъ въ домъ къ этой калѣкѣ, — будутъ они всѣ работать на меня. При этомъ онъ склонилъ голову, какъ будто затягивалъ все новые узелки той сѣти, которой хотѣлъ опутать эту злополучную семью.
— Тилько попередъ усёго, Гаво, — сказалъ онъ себѣ въ комически наставительномъ тонѣ и на языкѣ мужиковъ, — не дуже квапся! Маешъ часъ! Тильки не раптомъ! Не думай усе разомъ загарбаты, а помаленьку. Теперь заробокъ добрый и для мене, и для ныхъ, — нехай заробляють, нехай тишаться, се ничого но завадыть. Хто знае, чы довго се потривае. А въ тимъ — потривае, чы не потривае! Скоро побачышъ, що имъ гребень почынае видростаты, заразъ треба такъ зробыты, щобы троха похудилы. То имъ дасть пизнаты, и що на свити разъ ведеся, другый разъ ни. Потому зновъ ихъ троха пиднимемо, — вдячни будутъ, потому зновъ до земли. А тамъ побачымо, що дасться дальше зробыты. Ны, ны, якось буде. Хыба бы не цвила, що бы не родыла!
— А покуда что, разсуждалъ далѣе Гава, нужно смотрѣть въ оба, высматривать новые гешефты. А сколько здѣсь гешефтовъ, и какихъ хорошихъ гешефтовъ! Ей Богу, не понимаю, какъ это такъ таки никто не думаетъ прибирать все это къ рукамъ. Нашъ братъ еврей позасѣдалъ по шинкамъ да корчмамъ, а ежели кромѣ распаиванья мужиковъ покупаетъ еще у бабъ масло и яйца, то ужъ и думаетъ, что Богъ знаетъ, какую штуку создалъ. А какой же это гешефтъ! Яйца и масло? Тьфу! Здѣсь гешефты совсѣмъ другаго рода, надо только сумѣть взяться за нихъ. Вотъ на горахъ бойки воловъ откармливаютъ, да какихъ воловъ! Ай-ай-ай! Евреи покупаютъ этихъ воловъ на ярмаркахъ и гонятъ въ Вѣну. Дураки! Какіе изъ этого барыши можно получить? Барыши не ахти какіе, потому что бойка на ярмаркѣ не проведешь, цѣны онъ знаетъ твердо и торгуется, какъ одержимый бѣсомъ. А пусть тамъ по пути пара воловъ подохнетъ, — какой громадный убытокъ! Нѣтъ, гешефтъ въ этомъ воловьемъ дѣлѣ есть, да только не съ этого конца. Вотъ ежели бы этого самаго бойка да такъ подойти, чтобъ ему казалось, что волы его, а они въ самомъ дѣлѣ были бы мои! Онъ бы ихъ выкармливалъ и на ярмарку приводилъ, а я бы ихъ продавалъ, бойку на водку, а прочія деньги себѣ въ карманъ — фу! Да тамъ пара воловъ по четыреста, по пятьсотъ гульденовъ! Вотъ гешефтъ такъ именно гешефтъ!
Гава даже глаза прищуривалъ и губы складывалъ, какъ будто, облизалъ ложку съ медомъ, — такимъ заманчивымъ и блестящимъ казался ему этотъ новый гешефтъ, представлявшійся его воображенію пока еще въ неопредѣленныхъ чертахъ, но тѣмъ не менѣе въ розовомъ освѣщеніи.
VIII.
Прошло полгода. Cтаромійскіе жили, какъ у Бога за пазухой. Заработокъ не прекращался, напротивъ, даже удвоился послѣ того, какъ Марынця съ мѣсяцъ тому назадъ стала женой Андруся. Андрусь имѣлъ возъ и пару хорошихъ лошадей и возилъ дубовые брусья для строившейся какъ разъ между Хировомъ и Добромилемъ желѣзной дороги, при чемъ зарабатывалъ хорошія деньги. Правда, послѣдніе два мѣсяца Гава заказывалъ уже менѣе чепцовъ, но вмѣсто этого для какихъ то мазурскихъ деревень оказались нужными тонкія, такъ же, какъ и чепцы, плетенныя сѣтки, служащія тамъ вмѣсто вѣнчальной фаты; сѣтки эти давали еще лучшій заработокъ, чѣмъ чепцы.
Былъ прекрасный осенній день, когда Гава опять навѣстилъ хату Старомійскаго. Даже эта ветхая хата подъ рукой молодаго и домовитаго Андруся помолодѣла и приняла видъ порядочной, хозяйской усадьбы. Но Гава не смотрѣлъ на эту обстановку. Въ глазахъ его блуждали какіе то огоньки, какъ въ глазахъ кошки, готовящейся къ прыжку на намѣченную уже добычу.
— Добрый день вамъ, пане Старомійськый! сказалъ Гава,входя въ избу.
— А якъ ся маетъ, Гаво?
— Зле ся маю, отвѣчалъ жидокъ, садясь на лавѣ; кепськи торгы.
— Е, шо тамъ, дасть Бигъ, то й липши будутъ.
— Може, колись и будутъ липши, але теперъ кепсько зъ нами. Знаете, вже тры недили чекаю. Видъ трьохъ недиль ани одного чипця не продавъ.
— Не може буты! вскрикнулъ Старомійскій полушутливо, потому что не очень вѣрилъ словамъ Гавы.
— Ба, не може буты, колы такъ е. Вси мають досыть чипцивъ на теперъ, ны, и що имъ зробымо.
— Треба шукаты де дали, де насъ ище не знають.
— Шукавъ я, шукавъ, ничого не помагае. А я думаю, що на якыйсь часъ треба перестаты робыты.
— Перестаты робыты! вскрикнулъ въ свою очередь встревоженный Старомійскій. — Теперь перестаты робыты, колы саме найлипша пора до роботы? Циле лито, колы можна було въ поли заробыты и соби треба було хочъ де що рушыты, то мы сыдилы за кроснамы, а теперъ, колы сама пора така, щобъ сыдиты дома, то мы маемо перестаты робыты! Ни, Гаво, шуткуешъ!
— Ны, але що жъ я вамъ пораджу? почти сквозь слезы вскрикнулъ Гава, коли у мене нихто уже чипцивъ не купуе. Маю ихъ на склади тры копы, и що зъ нымы робыты? А килько я въ ныхъ грошей вбухавъ, самы порахуйте!
— Але бийся Бога, Гаво, що жъ мы будемо робыты?
— Ны, Богъ ласкавъ, и вы не згынете, утѣшалъ, улыбаясь, Гава. Маете ниврокы такого доброго зятя, що тилько грошей заробляе пры колии, то якось выжыете. А може за мисяць, за другый и на чыпци зновъ покупъ пиде. Скоро тилько почнуть купуваты, то будьте певни, що я дамъ вамъ знаты.
— Ну, але ти, що вже готови, що зъ нымы буде?
— А багато ихъ маете?
— Сорокъ штукъ.
— Що жъ маю робыты, мушу вже ихъ забраты. Нехай страчу, а слова додержу.
Гава взялъ чепцы и уплатилъ деньги. Старомійскій стоялъ возлѣ стола, посматривая на позаснованныя кросна и опечаленныя лица дочерей, и чесалъ затылокъ.
— Ни, Гаво, сказалъ напослѣдокъ онъ рѣшительно, — то не може буты, щобы мы тепера перестали робыты.
— Ны, то робить! отвѣчалъ Гава равнодушно.
— Слухай, Гаво! Я думаю, чы такъ не буде добре. У насъ е ту ще пару крейцаривъ наскладаныхъ, накупымо матерыялу и будемо робыты, а скоро купець кынеся, то ты будешъ маты товаръ готовый. Добре такъ буде?
Гавѣ только и нужно было того.
— Що жъ, колы хочете, то нехай и такъ буде. Та тильки я вамъ напередъ повидаю, що не знаю, килько часу треба буде чекаты на купця.
— Що робыты! Килько треба буде чекаты, то й почекаемо, а тымъ часомъ будемо робыты. Аджежъ на заробитокъ теперъ никуды не пидемо, а дома дармо сыдиты — грихъ. А такъ роблячы, бодай надию будемо маты, що не дармо робымо.
Гава ушелъ отъ Старомійскихъ въ очень веселомъ настроеніи. Дѣло само собою какъ то стало на ту дорогу, что было легко предвидѣть его неизбѣжный конецъ.
IX.
Прошло два мѣсяца. Гава, казалось, совсѣмъ забылъ, о своихъ прежнихъ знакомыхъ, не навѣщалъ ихъ, однимъ словомъ не давалъ о собѣ имъ никакихъ извѣстій.
Но вотъ разъ въ понедѣльникъ, среди ужаснѣйшей слякоти и стужи, встрѣтилъ онъ Старомійскаго на дрогобычевскомъ рынкѣ. Старикъ, весь обрызганный грязью, обнищавшій и изморенный, сгорбился и постарѣлъ какъ будто на десять лѣтъ. Въ окоченѣвшей отъ стужи рукѣ держалъ онъ свою палку съ колокольчикомъ и на ней связку чепцовъ; никто не обращалъ на него вниманія, никто не подходилъ и не спрашивалъ даже, какая цѣна на товаръ.
— Якъ ся маете, пане Старомійеькый? отозвался Гава, подходя къ старику.
— А, якъ ся маешъ, Гаво? проговорилъ Старомійскій какимъ то надтреснувшимъ голосомъ.
— Ны, що тамъ у васъ чуваты?
— Вида, Гаво! Доведеся намъ усимъ на пни вмираты.
— Якъ то вмираты? За що вмираты? По що на пни вмираты?
— Зъ нужды, зъ голоду! Зыма йде, а у насъ заробитку нема, хочъ забийся!
— А то чому? Адже пры колии теперъ заробиткы найлипши, платятъ добре.
— Що зъ того, колы зятеви оденъ кинь видийшовъ!* Однымъ конемъ и зъ дому выбыратыся ни що.
— Оденъ кинь видийшовъ! Ото зле! Треба купыты другого.
— Ба купыты, а за що купыты? Що було грошей, то мы выдалы на ныткы, наплелы тыхъ проклятыхъ чепцивъ — лежать цили купы, а нихто купуваты не хоче.
— А вы хотилы самы продаваты? спросилъ Гава съ плохо утаеннымъ злорадствомъ.
— Що жъ мавъ чоловикъ робыты? отвѣчалъ Старомійскій, какъ бы извиняясь. — Носывъ я ихъ и до Самбора, и до Перемышля, и до Дрогобыча — ниде нихто ани не дывыться. И що теперъ робытонькы, що початонькы, вжо й самъ не знаю.
— И я не знаю, отвѣчалъ Гава, я мои чипци лежать.
— Выдно, що насъ Богъ зовсимъ опустывъ! простоналъ Старомійскій, ударяя рукой объ полу.
— Ны, не кажить такъ, пане Старомійскій, наставительно сказалъ Гава, — не годыться таке говорыты. Знаете що, ходимо разомъ до шынку, выпъемо по скляночци пыва, огриемося троха, бо ту холодно зъ биса, и поговорымо, може найдеся для васъ яка рада.
Старомійскій охотно пошелъ вслѣдъ за Гавой. Ему мелькнулъ лучъ надежды впереди.
— Знаете що, пане Старомійскій, проговорилъ Гава, когда они немного отогрѣлись и выпили по стакану пива, — багато вы маете тыхъ чипцивъ готовыхъ?
— Цилыхъ пять кипъ. Чипци якъ золото, а що мыни зъ ныхъ.
— Нихто не купуе?
— Самъ бачышь, що нихто.
— Я вамъ со давно казавъ. Ны, ало що то теперъ говорыты, теперъ треба яку пораду даваты. А багато вамъ треба на коня?
— Та кобы хочъ якого харлака! Теперъ на пашу тисно въ нашыхъ сторонахъ, за тридцать рымськыхъ можна коня купыты.
— Тридцать рымськыхъ! — то сума, пане Старомийськый. Ны, але знаете що, я вамъ дамъ тридцать рымськыхъ — за ваши чипци.
— Якъ то за мои чипци?
— Ны такъ, за вси пять кипъ.
— Бійся Бога, Гаво! вскрикнулъ Старомійскій. Адже я за самый матерыялъ двадцять пять срибла зъ докладомъ заплативъ, а наша работа!...
— Знаю се, знаю, але що жъ я вамъ пораджу? Я и такъ тилько зъ доброго серця хочу вамъ помогты. У мене щѳ тамти чипци лежать, а си я купую такъ, на выдыму страту. Пять кипъ! Що я, зъ такою купою почну? А не хочете моей помочи, то я вамъ зъ нею не набываюся!
Старомійскій даже задрожалъ. Лучъ надежды, который блеснулъ ому такъ недавно, теперь началъ потухать и теряться въ туманѣ.
— Ни, Гаво! сказалъ онъ, обхватывая своей старческой рукой худой и жесткій локоть Гавы. Я знаю, ты добрый хлопець, але бій же ся Господа Бога! Тридцать рымськыхъ за пять кипъ чипцивъ, — адже жъ се выходить по десять крейцаривъ за чепець — якъ разъ половина того, що варта товаръ.
— Знаю се, знаю, — отвѣчалъ въ упоръ Гава, — та що жъ я можу на се порадыты, колы того товару теперъ навыть за пивъ цины не продамъ.
— Ну, але перечекаешъ троха, то ще й зъ зыскомъ продасы.
— Перечекаешъ! вскрикнулъ Гава, какъ бы задѣтый за живое. Що то значить перечекаешъ? А чымъ добре чекаты? Чекайте вы, колы вамъ такъ добре. Вы гадаете, що я грошы роблю, що я господаръ на грунти, що я багачъ, то й можу чекаты? Якъ ныни не маю грошей, то мушу здыхаты зъ голоду, и нихто мини не поможе. Для мене чекаты — смерть, ще гирше, нижъ для васъ.
— Ну, ну. Гаво, не гнивайся, успокаивалъ его Старомійскій. — я се такъ тилько сказавъ, но зъ злого серця. Ну, нехай уже буде по твоему, що маю робыты. Адже жъ не можу власнымы очыма глядиты на грызоту дитей. Охъ, Гаво, якъ бы ты знавъ, яке тамъ у насъ пекло видъ того часу, якъ кинь видійшовъ? Серце краеся. Диты плачутъ, а зять ходыть, якъ одурилый, мало що головою о стину не бьеся, ни розмовы, ни роботы ніякои въ хати. Ще якъ бы мы кого поховали зъ помижъ себе, то бы такъ тяжко не було.
И двѣ крупныя слезы повисли на сѣдыхъ рѣсницахъ Старомійскаго. Гава отвернулся, чтобы не видѣть этихъ слезъ.
— Ны, сказалъ онъ, немного помолчавъ, покуда старикъ нѣсколько успокоился, — то якъ же буде зъ чинцями? Пристаете на мою цину?
— Що вже маю робыты, сказалъ старикъ, нехай и такъ буде. Тилько знаешъ, Гаво, не забувай за насъ на дали! Дай намъ заробитокъ, щобъ мы не сыдилы дармо, бо боюся, що пры тій грызоти вси подуріемо.
— Э, Богъ зъ вамы, пане Старомійскій, що вамъ тамъ до головы прыходыть. Нехай насъ усихъ Нанъ Битъ бороныть видъ того! А теперъ слухайте, що я вамъ скажу. Я ту покличу пысаря, зробымо контрактъ на ту продажу, пидпышемо контрактъ пры свидкахъ у нотарія, и я вамъ заразъ дамъ грошы.
— А то по що ще пысаты и нотареви платыты? Хиба на слово мини не вирышъ?
— Ны, що тамъ, вирышъ, не вирышъ, усе то липше буты певнымъ свого. А коштъ увесь я самъ понесу, то моя ричъ.
— Га, колы вже такъ хочешъ, то нехай и такъ буде.
Гава вскорѣ нашелъ „покутного пысаря“, сидѣвшаго въ томъ же шинкѣ и тутъ же за стаканомъ пива написавшаго имъ требуемый контрактъ. Гава велѣлъ подать еще два стакана пива для себя и для Старомійскаго и началъ разговоръ съ нимъ еще объ одномъ „дѣльцѣ“.
— А що до далбшого заробитку, то справди не знаю вже, якъ маю братися до той ричы, говорилъ Гава. Хыба знаете що зробымо? Плетить вы зъ мого матерыялу...
— Що жъ, для насъ то все одно...
— Я вамъ за роботу дамъ видъ штукы по висимъ креидаривъ.
— Висимъ креидаривъ, Гаво? То за мало.
— А мини бачыться, що не за мало. Слухайтѳ дальше: що тыжня зробыте мини трыдцять штукъ, — се вже мусыть буты, чы буде торгъ на чинци, чы ни. Въ такимъ рази заробыте що тыжня чыстыхъ два рымськыхъ 40 кр. Мало то, мало, але сами прызнайте, все такы липше, нижъ ничого. И не потребуете вси робыты. Одна дочка може де що шыты, друга прясты, чы якъ тамъ. А скоро тилько покупъ липшый буде, ны, то вже, розумиеся, и роботы буде бильше, и зарибку бильше. Ны, що жъ, прымаете?
Старомійскій повѣсилъ свою сѣдую голову. Чувствовалъ онъ, какое ярмо надѣвалъ ему на шею Гава, но и не видѣлъ возможности избѣжать его и, недолго подумавъ, согласился на предложенную Гавою сдѣлку.
— Ны, то й нате зробымо контрактъ нотарыяльный.
— Контрактъ? А то якымъ способомъ?
— Ны, такъ, по просту, напышемо, що теперъ весь рикъ видъ нынишного дня я маю вамъ що тыжня даваты матерыялъ що найменьше на трыдцять чепцивъ, а якъ треба буде, то й на бильше, и за кождый готовый чепецъ платыты вамъ по висимъ крейцаривъ. А по роци схочете дали зо мною маты дило, то добре, а ни, то ни. Думаю, що на те можете спокийно пидпысатыся.
И Старомійскій дѣйствительно подписался. Гава только ухмылялся, радуясь изрядному гешефту. Чепцы его шли лучше, чѣмъ когда нибудь прежде, особенно въ горные округа, а плата, какую ему удалось накинуть на Старомійскаго, обезпечивала за нимъ почти 100 процентовъ барышей отъ затраченнаго капитала.
Живо сбѣгалъ онъ за старымъ Фавелемъ, который, какъ опекунъ, по случаю его малолѣтства долженъ былъ отъ его имени заключить контрактъ съ Старомійскимъ.
Старый Фавель даже по колѣнямъ себя хлопнулъ и зачмокалъ, когда Гава разсказалъ ему о своей сдѣлкѣ съ чепцами, о которой онъ до сихъ поръ ничего не слыхалъ отъ своего ученика, — такъ осторожно и изподтишка этотъ послѣдній велъ свое дѣло. Когда оба договора были подписаны и засвидѣтельствованы нотаріусомъ, Фавель, выходя изъ конторы, съ какимъ то почтительнымъ удивленіемъ смотрѣлъ на долговязую, сухощавую и вертлявую фигуру своего воспитанника.
— Ны, ни врокы ему! бормоталъ онъ, — изъ него певно щось велыке буде! За моихъ часивъ такыхъ хлопцивъ не бувало. И подумаетъ, що ему ще висимнадцять литъ не мынуло! Що то винъ покаже зъ себе, якъ ему двадцять мыне?
Гава же, спрятавъ въ карманъ своего халата драгоцѣнные документы, отдающіе въ его руки на весь годъ цѣлую мѣщанскую семью, набожно шепталъ, вспоминая завѣщаніе своего отца:
— Слава Богу, для начала и эго хорошо!
Миронъ.
_______
* Нанашко — въ подгорскомъ нарѣчія крестный отецъ. Авт.
* Подгорскій крестьянинъ никогда не скажетъ: „кань здохъ“, либо „корова здохла“; выраженіе это слишкомъ грубо; а всегда говоритъ: „кинь видийшовъ,“ „корова видийшла“, прибавляя при этомъ обыкновенно: „най ся предъ каже“. Авт.
20.09.1888