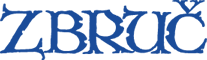Пріоръ іезуитскаго монастыря въ Тернополѣ, возвратясь изъ общей монастырской столовой, слегка зѣвая, готовился прилечь и отдохнуть послѣ хорошаго обѣда, для чего по случаю жаркой лѣтней погоды снялъ сапоги и рясу, какъ вдругъ въ дверь его кельи раздался стукъ. Наморщивъ лобъ и сдѣлавъ непріятную гримасу, пріоръ помолчалъ съ минуту, и только послѣ второго стука сказалъ.
— Войдите!
Съ низкимъ, утрированно смиреннымъ поклономъ вошелъ членъ конвента, патеръ Гаудентій.
— Вамъ что нужно, frater?—строго спросилъ его пріоръ.
—- Я хотѣлъ просить васъ, clarissime,— началъ патеръ, останавливаясь у порога,—чтобъ вы выслушали меня. Я хотѣлъ бы сообщить вамъ кое что....
— Что нибудь важное случилось?—отрывисто спросилъ пріоръ.
— Н-нѣтъ,—замялся патеръ,—случиться не случилось ничего особеннаго. Но я хотѣлъ просить васъ выслушать нѣкоторыя мои мысли и соображенія....
— А, такъ, ваши мысли!—сказалъ съ нѣкоторымъ ироническимъ оттѣнкомъ въ голосѣ пріоръ.—Но нельзя ли эти мысли и соображенія отложить до болѣе удобнаго времени?
— Конечно, конечно, можно,—поспѣшилъ согласиться патеръ.— Однако извините, clarissime, я думалъ, что время теперь самое подходящее: школьныхъ занятій нѣтъ, да къ тому же еще приближается срокъ высылки нашему преосвященному отцу провинціалу обычнаго ежемѣсячнаго рапорта.
— Рапорта!—почти вскрикнулъ пріоръ и совершенно очнулся отъ той полудремоты, въ которую начала его было погружать мѣрная и монотонная рѣчь патера, сопровождаемая жужжаньемъ большихъ мухъ въ рѣшетчатомъ окнѣ кельи, да чириканьемъ воробьевъ среди вѣтвей густыхъ вишень, нависшихъ къ самому окну.—Рапорта!—повторилъ онъ еще разъ и изъ подлобья взглянулъ на патера.
— А вамъ какое дѣло до рапорта?
— Сохрани Богъ,—поспѣшилъ извиниться патеръ Гаудентій.— Я отлично знаю, ciarissime, что рапортъ—ваіііе дѣло, и потому именно осмѣливаюсь утруждать васъ моей просьбой, чтобъ вы могли изложить мои мысли и соображенія и представить ихъ въ своемъ рапортѣ отцу провинціалу, конечно, ежели онѣ вамъ покажутся того достойными и подходящими.
Но пріоръ, хотя и не сводилъ пристальнаго взгляда съ патера Гаудентія, не слушалъ его вкрадчивой, нѣсколько водянистой и монотонной рѣчи. Его занимала новая, внезапно поразившая его мысль. Онъ зналъ, что всякій изъ патеровъ имѣетъ право секретно обращаться къ провинціалу съ „рефератами“, т. е. съ доносами на прочую братію и въ томъ числѣ на него самого, пріора. Но до сихъ поръ дѣла какъ то такъ складывались въ монастырѣ, что тернопольскій конвентъ жилъ, какъ одна семья, и никто изъ-за взаимныхъ доносовъ не имѣлъ никакихъ непріятностей. Въ настоящемъ же году дѣла вдругъ измѣнились къ худшему. Ни съ того ни съ сего двухъ патеровъ перевели изъ Тернополя въ какой то горный монастырь въ Тиролѣ, считающійся мѣстомъ заточенья, и вмѣсто нихъ прислали двухъ новыхъ. Съ тѣхъ норъ какъ будто мѣшокъ развязался со всякими выговорами, реколлекціями и прочими непріятностями, которыя такъ и сыпались изъ Кракова на несчастный тернопольскій конвентъ. Пріоръ и всѣ патеры недоумѣвали, кто это такъ имъ прислуживается. Подозрѣніе падало то на того, то на другаго изъ патеровъ, тѣмъ болѣе, что всѣ чувствовали себя виноватыми во многихъ послабленіяхъ и упущеніяхъ противъ монастырской дисциплины.
Патера Гаудентія какъ то всего менѣе подозрѣвали въ этихъ „пакостяхъ“. Во первыхъ, съ его прибытія въ конвентъ прошло уже болѣе четырехъ лѣтъ, и первые годы его пребыванія среди тернопольскихъ іезуитовъ были самые благополучные. Во вторыхъ, патеръ Гаудентій пользовался у прочей братіи репутаціей Якима-Простоты или даже, пожалуй, какого то юродиваго. Репутація эта, повидимому, очень .огорчавшая патера, но которую онъ тѣмъ не менѣе всегда поддерживалъ разными незамысловатыми выходками, составилась главнымъ образомъ вслѣдствіе его знаменитаго „миссіонерскаго похода въ одиночку“ въ люблинскую губернію, для католической пропаганды среди тамошнихъ уніатовъ. Походъ этотъ кончился самымъ постыднымъ бѣгствомъ патера изъ предѣловъ Россіи, гдѣ онъ, подобно древнему пророку Іонѣ, пробылъ всего три дня, и откуда возвратился безъ памяти отъ страха и отъ удара, полученнаго имъ ночью прикладомъ ружья отъ мощной руки пограничнаго объѣздчика. Съ истинно комическимъ прискорбіемъ разсказывалъ патеръ объ этомъ своемъ подвигѣ, и разсказъ его всегда доводилъ всю братію до взрывовъ неудержимаго хохота. Самъ же патеръ Гаудентій, какъ будто не замѣчая этого впечатлѣнія, строилъ при этомъ казанскую сироту и, увлекаясь разсказомъ, то блѣднѣлъ, то дрожалъ, то плакалъ, что конечно еще болѣе заставляло смѣяться его слушателей. Притомъ же патеръ казался такимъ простымъ, прямодушнымъ и незлобнымъ, что трудно было даже представить себѣ его пишущимъ доносы на своихъ собратій.
А все таки, по какому то неясному внушенію, именно эта мысль и промелькнула въ головѣ пріора въ тотъ моментъ, когда патеръ упомянулъ о ежемѣсячномъ рапортѣ. Онъ вспомнилъ все, что зналъ о прошломъ патера Гаудентія. Сынъ убогаго мазурскаго крестьянина, онъ былъ когда то взятъ тарновскимъ епископомъ Войтаровичемъ на воспитаніе и по смерти его поступилъ въ ученіе къ іезуитамъ въ Краковѣ, окончивъ образованіе въ Римѣ, гдѣ и принялъ монашество и поступилъ въ орденъ „имени Іисусова“. Пріору неизвѣстна была репутація,
какою пользовался Гаудентій въ Римѣ. Онъ зналъ только, что нѣсколько лѣтъ спустя онъ былъ посланъ самимъ генераломъ ордена Бекксомъ „миссіонеромъ“ въ люблинскую губернію, гдѣ и провалился самымъ блистательнымъ образомъ. Теперь только, сообразивъ всѣ эти обстоятельства, пріоръ мгновенно пришелъ къ убѣжденію, что, въ виду чрезвычайной важности „позиціи“ католицизма въ люблинской губерніи и вообще въ Россіи, римскіе верховоды должны же были хорошенько обдумать, кому ввѣрять такое дѣло, какъ миссія, и вслѣдствіе этого должно быть въ молодомъ патерѣ усмотрѣли какую нибудь гарантію ея успѣшнаго исхода. Отсюда патеръ Гаудентій долженъ же быть не такимъ ужъ простофилей и дуракомъ, за какого себя выдавалъ до сихъ поръ. А въ такомъ случаѣ пріору сразу все становилось яснымъ и патеръ Гаудентій, можетъ быть самъ того не вѣдая, мгновенно выросъ въ его глазахъ. Весь образъ дѣйствій этого юродиваго патера сразу получалъ совсѣмъ другое значеніе, значеніе очень ловко придуманной и искусно исполненной, чисто іезуитской интриги; къ тому уже давно догадывался пріоръ, что въ Римѣ недовольны образомъ дѣйствій тернопольскаго конвента, что отъ него, какъ отъ крайней твердыни па востокѣ, ожидаютъ большаго; инстиктивно чувствовалъ онъ приближеніе чего то роковаго. И вглядываясь пристально, исподлобья въ патера Гауден- тія, онъ не безъ основанія предполагалъ въ немъ провозвѣстника или даже авангардъ этого новаго направленія въ ихъ дѣятельности, которая должна была смести его, какъ смела отосланныхъ въ Тироль фратеровъ.
Подъ вліяніемъ этихъ мыслей и соображеній, промелькнувшихъ въ головѣ нріора, лицо его приняло какой то озабоченный видь, и онъ, помолчавъ съ минуту, какъ то поспѣшно и отрывисто проговорилъ:—Гмъ, вотъ какъ! Мысли и соображені"..... Что жъ, это хорошо! конечно, конечно обсудимъ и изложимъ... Садитесь, reverendissime, садитесь пожалуйста здѣсь! Я къ вашимъ услугамъ.
Тонкая ироническая улыбка пробѣжала по лицу патера, покуда онъ, униженно раскланиваясь, занялъ мѣсто на простомъ деревянномъ стулѣ у стола, за которымъ возсѣлъ пріоръ.
— Ну-съ, reverendissime, произнесъ пріоръ, когда они оба усѣлись другъ противъ друга. На счетъ чего хотите вы предложить свои мысли?
— Одна только у меня забота, clarissime, всѣмъ намъ общая: благо и преуспѣяніе нашей святой, католической церкви, отвѣтилъ патеръ Гаудентій.—Вамъ, clarissime, конечно, лучше меня извѣстно положеніе пашей церкви въ здѣшнемъ краѣ, особенно же положеніе нашего конвента здѣсь, на самомъ восточномъ аванпостѣ католицизма, на самомъ, такъ сказать, виду могучаго и грознаго, противника—православія.
— А, значитъ, я не ошибся!—подумалъ пріоръ, это онъ, провозвѣстникъ реформы, подосланный къ намъ въ соглядатаи! Это онъ—авторъ доносовъ! Ну, хорошо, теперь но крайней мѣрѣ я знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло.
И затѣмъ, обращаясь къ патеру, какъ бы недоумѣвая, спросилъ.
— Позвольте однако, reverendissime, но я не совсѣмъ ясно понимаю къ чему это вступленіе?
— Сейчасъ буду имѣть честь объяснить вамъ все,—поспѣшно произнесъ патеръ,—смиренно прося вниманія съ моимъ словамъ. Я хотѣлъ только предупредить васъ, что я не позволилъ себѣ ни на минуточку сомнѣваться никогда въ вашей глубокой мудрости и въ вѣрномъ знаніи и пониманіи окружающихъ насъ обстоятельствъ, и если позволилъ себѣ по своему собственному побужденію собратъ кое какія свѣдѣнія, касающіяся настоящаго положенія вещей, и формулировать кой какіе выводы, то никакъ не изъ недовѣрія къ вашему руководительству, но скорѣе изъ горячаго усердія къ нашему общему святому дѣлу.
Недоумѣніе пріора смѣнилось нетерпѣніемъ. Онъ почувствовалъ какое то отвращеніе и ненависть къ сидящему предъ нимъ приниженному лицемѣру и доносчику, сознавая въ то же время, что тотъ въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ совсѣмъ въ духѣ правилъ іезуитскаго ордена. Дѣло касалось пріора лично, и потому въ немъ человѣкъ взялъ верхъ надъ іезуитомъ. Сообразивъ, что передъ нимъ сидитъ его тайный врагъ и соглядатаи, онъ и рѣшился говорить съ нимъ прямо, безъ лишняго фарисейства.
„Покуда я еще здѣсь старшій, думалъ онъ,—и нужно дать ему это почувствовать, а тамъ будь что будетъ“.
— Знаете, reverendissime—произнесъ онъ какимъ то жесткимъ и брезгливымъ тономъ,—говорите со мной просто и открыто. Я въ Римѣ не бывалъ, дипломатіи никогда не обучался, и всегда думалъ, что за ней скрывается порядочная доля неискренности. Къ тому же я думаю, что мы свои люди, такъ будемъ же говорить безъ лишнихъ обиняковъ.
Патеръ опять улыбнулся иронически, какъ будто чувствовалъ удовольствіе въ томъ, что такъ скоро вывелъ старика изъ терпѣнія и заставилъ его такъ открыто высказаться.
— Что жъ, воля ваша, darissime,—сказалъ онъ, все тѣмъ же утрированно смиреннымъ голосомъ.—Моя душа чиста отъ порока неискренности, особенно же предъ лицомъ моего настоятеля, который долженъ быть для меня первымъ послѣ Бога,
— Къ дѣлу, reverendissime, къ дѣлу!—перебилъ его пріоръ.
— Дѣло мое вотъ въ чемъ,—-говорилъ нимало не смущаясь, патеръ Гаудентій.—Извѣстно вамъ, clarissime. какія цѣли, какія задачи преслѣдуетъ въ здѣшнемъ краѣ нашъ святой орденъ. Завѣтное слово, произнесенное святѣйшимъ папой Урбаномъ, „orientem esse convertendum“ заключаетъ въ себѣ всю нашу программу, и путь къ ея исполненію долженъ быть вездѣ предметомъ нашего постояннаго и самаго тщательнаго вниманія.
— Между тѣмъ, вы находите, что мы съ недостаточнымъ вниманіемъ относимся къ этой нашей задачѣ? возразилъ пріоръ съ нескрываемымъ неудовольствіемъ.
— Боже сохрани, clarissime, Боже сохрани! Никогда я этого не думалъ! Да къ тому же кто такой эти „мы“? Вѣдь я же часть ихъ! значитъ... Нѣтъ, нѣтъ, не къ тому клонится моя рѣчь. А вотъ послушайте! Не безъизвѣстно вамъ тоже (въ голосѣ его прозвучала при этихъ словахъ ироническая нотка), что въ восточной части этого края живетъ народъ, считающій себя единоплеменнымъ съ народомъ, живущимъ по ту сторону Збруча. Но не въ томъ суть, а вотъ въ чемъ. Народъ этотъ принадлежитъ какъ будто къ католической церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ себя членомъ греческой, значитъ православной, церкви.
Эта... эта двойственность религіознаго сознанія между двумя воинствующими лагерями—какъ вы полагаете, clarissime, не должна ли она возбуждать нѣкотораго сомнѣнія и опасенія?
— Вотъ что!—почти вскрикнулъ пріоръ,—высчитаете положеніе уніатской церкви двойственнымъ, значитъ двусмысленнымъ?
— Да, clarissime!—твердо отвѣчалъ патеръ Гаудентій.—Болѣе того, я полагаю, что именно существованіе этой двойственной нейтральной почвы здѣсь, на рубежѣ, составляетъ одно изъ самыхъ серьезныхъ препятствій къ расширенію нашего вліянія по ту сторону пограничной черты.
— Это во всякомъ случаѣ интересное мнѣніе,—холодно и полупрезрительно сказалъ пріоръ,—и я очень хотѣлъ бы знать доказательства и факты, склонившіе васъ къ такому выводу.
— О, на этотъ счетъ, clarissime, за мной остановки не будетъ. Возьмите хотя бы ихъ священниковъ! Какая польза намъ, что они считаютъ себя католическими священниками, когда живутъ съ женами? Тамъ гдѣ бы нужно было работать для католицизма, отдать себя нераздѣльно и безусловно его интересамъ, они слушаются своихъ женъ, дѣйствуютъ сообразно своимъ семейнымъ отношеніямъ!
— Все это и вѣрно до васъ неоднократно подвергалось обсужденію,—желчно замѣтилъ пріоръ,—но вѣдь перемѣнить это не въ нашей власти. Дѣло это утверждено синодами и апостольскимъ престоломъ.
— Объ этомъ еще рѣчь впереди,—съ непоколебимой увѣренностью отвѣчалъ натеръ, но вотъ еще и другое обстоятельство. Развѣ вы не считаете нелѣпостью такое воспитаніе юной генераціи священниковъ, какое въ ходу у этихъ греко-католиковъ? Какой же священникъ выйдетъ изъ молодаго человѣка, который наканунѣ своего рукоположенія въ іереи, наканунѣ, повторяю, принятія самаго высокаго таинства церковнаго, по праздникамъ выдѣлываетъ „козачка“, да „коломыйкы“, кружитъ головы поповнамъ и о томъ только и думаетъ, какъ бы найти невѣсту съ хорошимъ приданымъ и избавиться отъ долговъ, надѣланныхъ въ духовной семинаріи!?
Натеръ очевидно начиналъ входить въ азартъ, увлекаясь теченіемъ своихъ мыслей. Рѣчь его, въ началѣ вялая и подслащенная, дѣлалась страстной и живой, u пріоръ начиналъ слушать его съ большимъ вниманіемъ.
— Дѣйствительно, это дѣло неподходящее,—отвѣтилъ онъ,—но и этого, кажется, мы не въ состояніи передѣлать.
— Только словъ Христовыхъ да догматовъ святой католической: церкви никто не въ нравѣ измѣнить,—съ жаромъ произнесъ па- теръ.—Все остальное не болѣе, какъ человѣческія узаконенія, установленныя во времени и для временныхъ нуждъ. Съ измѣненіемъ обстоятельствъ, мѣняются и нужды или замѣняются другими, поэтому и узаконенія должны измѣниться сообразно новымъ нуждамъ и обстоятельствамъ. Вы, clarissirae, упомянули о прежнихъ буллахъ и синодахъ, нормирующихъ положеніе уніатской церкви. Не забывайте, что все это было два или три столѣтія назадъ, когда здѣсь существовало могучее католическое польское государство, когда православіе было въ упадкѣ и когда католическая церковь могла, не роняя своего могущества и авторитета, дѣлать уступки мѣстнымъ традиціямъ. Теперь обстоятельства измѣнились, теперь всякое послабленіе со стороны католицизма враги и друзья его готовы считать доказательствомъ его дѣйствительной слабости. Теперь, clarissirae, когда мы дѣйствительно стали слабѣе, намъ нужно но крайней мѣрѣ казаться сильными, во что бы то ни стало сильными!
Пріоръ слушалъ эту восторженную тираду, широко раскрывъ глаза. Такой страсти, такого широкаго взгляда на вещи онъ не ожидалъ у обыкновеннаго патера. Не оставалось никакого сомнѣнія, здѣсь онъ имѣлъ дѣло съ агентомъ довольно крупнаго разбора.
— Ну, положимъ, что это такъ,—согласился онъ,—что все это можно измѣнить. Но все таки интересно было бы знать, что и какъ вы хотите сдѣлать?
— О, для этого достаточно только хорошо знать, какъ стоятъ дѣла въ настоящее время, а образъ нашихъ дѣйствій самъ собою опредѣлится. Нужно твердо убѣдиться, что положеніе этой такъ называемой уніи совершено несостоятельно, что въ настоящее время она растеніе безъ корней: отъ православія отстала, а къ католицизму ее пристала. Ну, скажите, что можетъ быть нелѣпѣе этого требованія какой то автономіи, какой то народной церкви со стороны уніатовъ? Вѣдь католическая церковь тѣмъ только и сильна, что одна и централизована, что всегда держится этого принципа: кто не со мной, тотъ противъ меня. Автономія, нейтральность во время борьбы, это вѣдь равносильно предательству. Вотъ почему мы должны прежде всего искоренить здѣсь всѣ эти автономическія поползнованія, водворить католицизмъ saus phrase и только тогда будемъ имѣть въ рукахъ могучій рычагъ для дальнѣйшей борьбы съ востокомъ.
Патеръ Гаудентій остановился, чтобы перевести духъ. Лобъ его покрылся каплями пота, и въ углахъ рта образовались клочки бѣлой пѣны. Пріоръ сидѣлъ молча, съ выраженіемъ раздумья на полномъ, лоснящемся лицѣ. Наконецъ онъ сказалъ:
— Что жъ, reverendissime, мысли ваши очень интересны и я, конечно, постараюсь сообщить о нихъ, куда слѣдуетъ. Я думаю даже, что дѣло это въ самомъ народѣ не встрѣтитъ никакого препятствія. Я знаю довольно близко уніатское населенія здѣшняго города и вижу, что оно очень охотно ходитъ въ костелы на латинское богослуженіе. Бывалъ я тоже на католическихъ „отпустахъ“ въ Милятинѣ, Кальваріи, Кохавинѣ и собственными глазами видѣлъ, какія массы уніатскаго народа стекаются на эти празднества. Это и приводитъ меня къ заключенію, что самъ народъ симпатизируетъ латинскому обряду, быть можетъ, даже больше греческаго и не будетъ противодѣйствовать такимъ реформамъ, какія вы, очевидно, имѣете въ виду.
— Факты, приведенные вами, clarissime, очень цѣнны и интересны сами по себѣ,—отвѣчалъ патеръ,—но къ сожалѣнію, это только одна сторона медали. Вы указываете на латинскіе „отпусты“ въ Кальваріи и Милятинѣ. Я вамъ укажу на уніатскіе „отпусты“ въ Гошевѣ и Зарваницѣ, посѣщаемыя ежегодно почти такимъ же множествомъ народа, какъ и указанные вами. Но это не все! Я вамъ укажу еще на одинъ фактъ. Въ православный Нечаевъ, хотя онъ и за границей, путешествуютъ ежегодно тысячи этихъ уніатовъ, между тѣмъ какъ католическіе „отпусты“
патеровъ доминиканцевъ въ сосѣднемъ, по сю сторону границы лежащемъ, Подкаменѣ никакъ не могутъ добиться успѣха. Вотъ вамъ факты, о которыхъ стоитъ подумать!
— Но позвольте, reverendissime какъ же эго объяснить?— спросилъ озадаченный пріоръ.
— Вотъ то то и грустно, что объясненіе этого факта почти невозможно безъ предположенія о томъ, что унія не только сама по себѣ двусмысленна, не только недопускаема въ настоящее время по политическимъ соображеніямъ, но оказалась совсѣмъ непригодной для религіознаго воспитанія массъ народныхъ, поселяя въ нихъ равнодушіе къ самымъ существеннымъ истинамъ религіознымъ, двоевѣріе или даже полное отсутствіе всякаго религіознаго убѣжденія.
— Однако, позвольте... пробовалъ было возражать пріоръ.
— Нѣтъ, clarissirae,—перебилъ его патеръ Гаудентій, забывая всякое почтеніе къ настоятелю.— Прежде выслушайте меня, а потомъ уже судите. На дняхъ, возвращаясь изъ Подкаменя, нагналъ я близь деревни Товстохлоповъ кучку богомольцевъ и вступилъ съ ними въ разговоръ.
— А видкыля Богъ провадыть?—спрашиваю ихъ.
— Та зъ прощи—отвѣчаетъ мнѣ какой то мужикъ, шедшій во главѣ богомольцевъ.
— А куды ходылы на прощу?—продолжаю спрашивать.
— Та въ Почаивъ.
— Въ Почаивъ? Ну, и якъ же вамъ тамъ сподобалось?
— Та якъ же бо, добре—простодушно отвѣтилъ мужикъ.
— Добре? Бійтеся Бога!—не могъ я воздержаться, чтобы не вскрикнуть.—Що жъ тамъ такого доброго? Хыба жъ вы не знаете, що тамъ шызматыцька видправа?
— Та Богъ ёго знае,—отвѣчалъ мужикъ, почесывая затылокъ,— чи шызматыцька, чи не шызматыцька. Не наша ричъ о тимъ судыты. Намъ досыть знаты, що й тамъ Бога хвалятъ. Тай ще одно знаемо,—прибавилъ онъ и окинулъ меня какимъ то насмѣшливымъ взглядомъ,—що тамъ за сповидь менче беруть, нижъ у Пидкамени, а до того ще зимою въ церкви топлять.
Послѣ это разсказа патеръ Гаудентій сдѣлалъ эффектную паузу и оставался нѣсколько мгновеній съ распростертыми, руками, съ полураскрытымъ ртомъ и вытаращенными глазами, какъ бы пораженный ужасомъ и негодованіемъ.
— Какъ же на вашъ взглядъ, clarissime,—спросилъ онъ, прерывая молчапіе,—это ли не блестящее доказательство полнаго упадка религіознаго чувства среди массы уніатскаго народа? Вѣдь можно подумать, что ихъ не коснулся до сихъ поръ свѣтъ вѣры Христовой?
— Да, это вѣрно,—грустно подтвердилъ пріоръ.—Фактъ этотъ нельзя такъ оставить. А не знаете ли, откуда были эти люди?
— Изъ Товстохлопъ, я это сейчасъ же узналъ.
— И кто тамъ у нихъ священникомъ?
— Чимчикевичъ.
— Кто такой? Чимчикевичъ? Я что то до сихъ поръ не слыхалъ такой фамиліи.
— И неудивительно, потому что попъ онъ по истинѣ ископаемый. Старикъ древній, и вотъ уже тридцать лѣтъ никуда не выѣзжаетъ изъ своей деревни. Курьезъ, а не попъ. Я какъ то годъ тому назадъ познакомился съ нимъ.
— Ну, хорошо, объ этомъ послѣ,—перебилъ его пріоръ.—А теперь скажите же, къ какимъ собственно заключеніямъ вы пришли и какія вы предлагали бы средства для выполненія вашихъ предположеній?
— Я осмѣливаюсь предложить на разсмотрѣніе высшихъ властей вотъ какія предположенія. Во первыхъ, вліять на простой народъ по селамъ и мѣстечкамъ, искоренять среди него язву двоевѣрія и систематически воспитывать въ немъ религіозный католическій духъ.
— Хорошо, но какими средствами?—спросилъ пріоръ.
— Средства обыкновенныя. Нужно устраивать по селамъ и мѣстечкамъ, наипаче же возлѣ границы, систематически процессіи и миссіи съ возможно большимъ торжествомъ и соотвѣтственными проповѣдями. На грамотныхъ же въ городахъ, а также и въ селахъ можно вліять посредствомъ соотвѣтственныхъ къ тому нашихъ изданій, какъ это съ такимъ успѣхомъ практикуется уже нами въ западной части Галичины.
— Вполнѣ съ вами согласенъ, reverendissime,—сказалъ пріоръ и пожалъ руку ненавистному патеру.—Все это вѣрно придумано, и мнѣ кажется, что предположенія ваши должны встрѣтить полное одобреніе властей.
— Non mihi, clarissime,—смиренно отвѣчалъ натеръ,—sed ad majorem gloriam nominis Iesu. Что же касается уніатскаго духовенства, то намъ нужно раздѣлить его на двѣ категоріи. Есть между ними хитрецы, которые устами исповѣдуютъ унію съ Римомъ, душой же принадлежатъ православію и стараются подъ видомъ „очищенія обряда“ подогнать его къ православнымъ формамъ, отдаляясь все болѣе и болѣе отъ святой римской церкви. Такихъ нужно считать нашими прямыми врагами и поступать съ ними такъ, какъ съ врагами на войнѣ. Ихъ нужно держать подъ непрестаннымъ надзоромъ и, ежели только они подадутъ какой нибудь поводъ, компрометировать ихъ передъ властями и ихъ собственной паствой. Другая категорія — это допотопные, нищіе духомъ и добродушно наивные. Этихъ, конечно, большинство, и ихъ нужно ласкать, всячески обходить ихъ мирнымъ путемъ и медленно превращать ихъ въ наши орудія... Одновременно сь этимъ нужно обратить главное вниманіе на подборъ іерархіи изъ сторонниковъ нашего направленія и на воспитаніе молодежи въ нашемъ духѣ, особенно же стараться, чтобы молодые люди иначе не рукополагались бы въ іереи, какъ въ безбрачіи. При всемъ этомъ само собой разумѣется, что хожденіе на православные „отпусты“ въ Почаевъ или даже въ Кіевъ должно быть уніатамъ строго запрещено.
Пріоръ былъ дѣйствительно увлеченъ и растроганъ простотою, логичностью и грандіозностью плана, предложеннаго патеромъ Гаудентіемъ. Іезуитъ проснулся въ немъ и онъ порывисто бросился обнимать патера.
— Ахъ, reverendissime! Выслушавъ вашъ планъ, я, старикъ, и то помолодѣлъ!—воскликнулъ онъ.—Нѣтъ, это дѣйствительно, замѣчательныя предположенія и будьте увѣрены, что я постараюсь, чтобы имъ былъ данъ ходъ. Да, впрочемъ, и вы сами, кажется, имѣете личную переписку съ властями? Вопросъ этотъ сдѣланъ былъ такъ невинно, слегка, исходилъ такъ просто среди только что установившихся между ними отношеній, что патеръ Гаудентій, находившійся подъ впечатлѣніемъ торжества своего краснорѣчія надъ пріоромъ, сразу не нашелся солгать.
— Ну, да,—сказалъ онъ—иногда, но обязанности моей, я долженъ. Злобною радостью заискрились небольшія глазки пріора. Улыбаясь добродушно и пожимая сердечно руку патера, онъ сказалъ:
— Ну да, ну да, я такъ и думалъ, что это вы иногда, конечно, по своей обязанности, да пописываете доносы на нашу братію! Что жъ, reverendissime, это похвально, это даже повелѣваетъ нашъ уставъ. О, нѣтъ, не смотрите на меня съ такимъ смущеніемъ! Я ничего! Напротивъ, даже очень одобряю. Вы такой способный и опытный человѣкъ, и непремѣнно должны далеко пойти впередъ, а это вѣдь у насъ единственный способъ! И такъ, до свиданья, reverendissime, до свиданья. Предположенія ваши и соображенія я постараюсь вполнѣ передать, куда слѣдуетъ, а ужъ вы, пожалуйста, тоже не забывайте меня въ своихъ молитвахъ и своихъ..... хе, хе., хе... рапортахъ!
И съ этими словами, любезно раскланиваясь и болтая безъ умолку, пріоръ выпроводилъ озадаченнаго и ошеломленнаго патера Гаудентія въ корридоръ, послѣ чего заперся въ своей кельѣ.
II.
Прошелъ ровно мѣсяцъ послѣ этого разговора. II опять патеръ Гаудентій въ пріорской кельѣ, съ смиреннымъ и уничиженнымъ видомъ сидитъ напротивъ отца пріора, готовый слушать, зачѣмъ тотъ велѣлъ позвать его.
Не весело жилось патеру въ конвентѣ впродолженіе этого мѣсяца. Правда, никто не сдѣлалъ ему ни одного упрека, ни однимъ словомъ не обнаружилъ къ нему ни вражды, ни негодованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ его прежняя шутовская роль сразу прекратилась, какъ будто по мановенію волшебнаго жезла, всѣ отвернулись отъ него, и тѣ, которые прежде такъ любили слушать его разсказы и шутки, теперь или проходили молча, или ограничивались самыми необходимыми фразами. У всѣхъ изъ
братіи, при встрѣчѣ съ нимъ, какъ то невольно вытягивались лица, смыкались уста, дѣлались очень набожныя и постныя рожи. Весь мѣсяцъ былъ для патера однимъ непрерывнымъ silentium, усиливавшимся еще тѣмъ, что пріоръ не выпускалъ его пи на шагъ изъ монастырской ограды и не высылалъ по прежнему на служеніе ни въ городскія, ни въ загородныя церкви.
Патеръ переносилъ стоически это общее къ нему нерасположеніе братіи, но все таки видно было, что принималъ его глубоко къ сердцу и считалъ большимъ для себя оскорбленіемъ. Вѣдь онъ же не дѣлалъ ничего противозаконнаго! Вѣдь, можетъ быть, всякій изъ братіи преспокойно дѣлалъ то же, а все таки они дружелюбно разговариваютъ между собой, смѣются, ходятъ вмѣстѣ по монастырскому саду, только его одного чуждаются, какъ прокаженнаго.
—- Все это интрига этого сибарита, этого драннаго пріора!— скрежеталъ патеръ, ходя взадъ и впередъ по своей одинокой кельѣ.
— Но постой же ты, придетъ еще мое время; сведемъ мы съ тобой счеты!
Неудивительно затѣмъ, что вся злость, вся ненависть патера Гаудентія сосредоточивалась на головѣ пріора, и что всякая встрѣча съ этимъ своимъ „первымъ по Богѣ настоятелемъ“ была для него крайне тяжела, тѣмъ тяжелѣе, что къ ненависти и злобѣ какъ то невольно примѣшивалось глубокое чувство стыда и униженнаго человѣческаго достоинства.
Пріоръ все это очень хорошо сознавалъ и потому всячески ухищрялся продлить пытку злополучнаго патера. Такъ, въ общей столовой онъ велѣлъ ему садиться напротивъ себя; мѣсто это было почетное, занимаемое обыкновенно лицомъ приближеннымъ къ пріору, съ которымъ пріоръ всего болѣе любилъ разговаривать. Но пріоръ не удостоивалъ Гаудентія ни единымъ словомъ, разговаривалъ съ сидящими возлѣ него, и не переставалъ сверлить его своимъ пристальнымъ, добродушно - ироническимъ взглядомъ. Патеръ Гаудентій весь горѣлъ на своемъ почетномъ мѣстѣ подъ этимъ взглядомъ пріора,—онъ чувствовалъ, что тотъ хотѣлъ посадить его на общее позорище, и все время
сидѣлъ молча, согнувшись, съ наклоненнымъ лицомъ, стараясь никого не видѣть и ничего не слышать. Общія трапезы, благодаря этой невинной уловкѣ благочестиваго пріора, были для Гаудентія непрерывнымъ рядомъ мученій, отъ которыхъ онъ даже похудѣлъ.
Но вотъ случилось что то необыкновенное: пріоръ велѣлъ позвать Гаудентія къ себѣ въ келью. Нечего и говорить, что патеръ шелъ туда не въ очень то набожномъ настроеніи духа. Пріоръ встрѣтилъ его своимъ обыкновеннымъ, шутливо-ироническимъ взглядомъ, и не давая ему произнести слова, началъ свою рѣчь:
— Да, да, reverendissime, какъ я вамъ говорилъ.... Садитесь, садитесь, пожалуйста, вотъ здѣсь!.. Именно, какъ я вамъ говорилъ, такъ и случилось. Вотъ вамъ письмо отъ отца провинціала, и очень, очень даже милостивое къ вамъ. Конечно, это и не удивительно; вы вполнѣ заслужили такое къ вамъ довѣріе начальства! Говоря это, пріоръ развернулъ письмо провинціала и положилъ его передъ собой на столѣ. Натеръ Гаудентій протянулъ къ нему руку.
— Нѣтъ, извините, reverendissime,—смѣясь сказалъ пріоръ, накрывая письмо своей широкой, мясистой ладонью,—письмо это еще не вамъ адресовано, а покуда еще ко мнѣ. Я долженъ только передать вамъ его содержаніе, а именно то, что соображенія ваши приняты благосклонно, и вамъ же велѣно поручить исполненіе перваго ихъ пункта, именно устроеніе миссій и проповѣдей, гдѣ и какъ покажется вамъ нужнымъ. Конечно, всѣ мы обязаны вамъ содѣйствовать въ этомъ дѣлѣ, но въ видахъ высшихъ властей имѣется, чтобъ дѣло это велось сначала исподтишка, незамѣтно, совершенно такъ, какъ вы это умѣете,— язвительно добавилъ пріоръ.
— Воля начальства — воля Божья, — скромно и почтительно произнесъ патеръ—и я готовъ немедленно приняться за это дѣло.
— Вотъ это хорошо!—сказалъ пріоръ.—Но въ такомъ случаѣ скажите, каковъ вашъ планъ и въ чемъ должна выразиться наша вамъ помощь?
— Я хотѣлъ бы устроить первую миссію въ тѣхъ самыхъ Тов- стохлопахъ, о которыхъ я прежде имѣлъ случай упоминать въ разговорѣ съ вами.
— Да, помню, помню,—подтвердилъ пріоръ. — Вы называли даже тамошняго священника.... какую то фамилію?...
— Чимчикевичъ,—подсказалъ патеръ.
— Да, да, Чимчикевичъ! Что это за фигура такая?
— Крайне любопытная фигура,—отвѣчалъ патеръ,— и именно фигура эта заставляетъ меня съ Товстохлонъ начать миссіонерскую дѣятельность. Представьте себѣ: старикъ восьмидесятилѣтній, чудакъ, образованія почти никакого, настоящій мужикъ среди мужиковъ, о догматахъ вѣры ни малѣйшаго понятія—однимъ словомъ—явленіе допотопное. И при томъ добродушнѣйшій человѣкъ, наивный и довѣрчивый, какъ дитя. Такъ что съ одной стороны дѣятельность миссіонерская въ этомъ селѣ крайне нужна, а съ другой стороны здѣсь именно всего легче ее начать, потому что Чимчикевичъ всего менѣе способенъ на какое нибудь противодѣйствіе.
— Ну, и прекрасно! Богъ вамъ на помочь! Но почему вы полагаете, что миссіонерская дѣятельность въ Товстохлопахъ нужнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь?
— Да вѣдь подумайте, clarissime, что этотъ допотопный человѣкъ живетъ тамъ пятьдесятъ лѣтъ, и какія поученія онъ преподаетъ своей паствѣ! Вообразите, что проповѣди говоритъ всего только два или три раза въ годъ, да какія проповѣди! Просто уму непостижимо. Сосѣдніе священники передавали мнѣ ихъ дословно, они между ними просто стали притчею во языцѣхъ.
— Дитоньки, сьогодни народывся Исусъ Христосъ въ Вифлееми, мистечку жыдивськимъ, въ стайни бидний и убогий. Такъ, такъ, а зъ паномъ комысаромъ податковымъ раджу вамъ не заходыты соби, бо що вамъ зъ того прыйде? А? Его рука, его й сыла. Отъ що! Блогословеніе Господне на всихъ ваа-асъ“... Или вотъ другой образчикъ:
— „Дитки мои, сьогодни Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, а завтра у насъ храмовой праздникъ. Памятайте соби, щобы нихто зъ васъ завтра не бувъ пьяный ани бреверій ніякихъ не робывъ.
Боже васъ сохраны! А то та громадьска толока—часъ бы вамъ уже зыйтыся и порадытыся, що зъ нею робыты... Чую, що тамъ жыдъ до васъ пидсусиджуется, арендуваты хоче чи що.... Ге, старшина? Памятайте соби, що якъ тилько мени впустите жида до села, то я васъ и бачити не хочу! А ни чуты о васъ не хочу, не то що! Рцемъ вси отъ всея души, отъ всего помышленія нашего рцемъ!“...
Пріоръ хохоталъ неудержимо.
— Ну, уморили вы меня, reverendissime! Оставьте ради Бога! Да развѣ это возможно?
— Совершенно вѣрно, clarissime. Да чего больше, довольно только взглянуть на его образъ жизни, чтобъ убѣдиться, что отъ него и не этого можно ожидать. Живетъ онъ въ бѣдной крестьянской избенкѣ, старой и покосившейся, живетъ вмѣстѣ съ старой служанкой Хвеськой, глухой на одно ухо, и съ дряхлымъ слугой Прокопомъ, слѣпымъ на одинъ глазъ. Громада сама когда то построила Чимчикевичу домъ на главной улицѣ, близь церкви, но онъ сперва не хотѣлъ совсѣмъ переходить въ новый домъ, когда же, наконецъ его, таки уломали, онъ прожилъ въ немъ безъ малаго двѣ недѣли, послѣ чего ночью перешелъ въ свой „зимовникъ“. А въ новомъ, обширномъ помѣщеніи онъ, какъ въ сараѣ, сложилъ хлѣбъ. Представьте себѣ скандалъ въ селѣ и во всей окрестности, когда изъ всѣхъ оконъ новаго приходскаго дома видны были одни только торчащіе снопы. И ни за что въ мірѣ нельзя было болѣе уломать старика, чтобъ онъ опять перешелъ жить туда; громадѣ оставалось только одно: во избѣжаніе всеобщаго смѣха поскорѣе вымолотить сложенный въ новомъ домѣ хлѣбъ и принять этотъ домъ подъ общественные амбары и мѣсто засѣданій сельскаго начальства.
— Ну, да и хорошаго же вы выбрали себѣ противника!— сказалъ пріоръ, утирая шелковымъ платкомъ слезы, катившіяся по его лицу отъ смѣха.—Съ такимъ противникомъ борьба должна быть очень легка и успѣшна.
— Что жъ, clarissime,—смиренно возразилъ патеръ,—когда рожь поспѣетъ, колосья начинаютъ клониться.
— Хорошо, хорошо, съ Богомъ и на жнитво! Такъ какъ же вы думаете скоро собраться?
— Я думаю, что вообще нечего терять времени. Въ ближайшее воскресенье я могу сказать первую проповѣдь въ Товстохлопахъ.
— Хорошо! Сегодня у насъ понедѣльникъ. Сегодня же я напишу этому вашему Чимчикевичу, чтобъ онъ приготовилъ все нужное для миссіи, а въ субботу послѣ богослуженія вы и двинетесь въ путь.
— Какъ прикажете, clarissime!—отвѣтилъ патеръ.
Оба они поднялись съ мѣстъ, пріоръ проводилъ патера до двери, и па его низкіе поклоны отвѣчалъ той же добродушноиронической улыбкой.
III.
Въ субботу, послѣ ранней обѣдни, патеръ Гаудентій сѣлъ на приготовленную для него монастырскую бричку и весело покатилъ за городъ. День былъ прекрасный. По полямъ то и дѣло блестѣли серпы, звенѣли косы, раздавались пѣсни, смѣхъ и перекликанья рабочаго люда. Лѣтняя страда была въ полномъ разгарѣ.
Послѣ удушливой монастырской атмосферы патеру Гаудентію вдвойнѣ пріятенъ былъ этотъ широкій, свободный просторъ, этотъ чистый воздухъ и эта могучая, хотя и однообразная подольская картина.
До Толстохлоиъ путь былъ хотя и хорошъ, но совсѣмъ не близокъ. Была уже послѣобѣденная пора, когда легкая, рессорная бричка, постукивая слегка по твердой глинистой дорогѣ, въѣзжала въ тѣсный дворикъ товстохлопскаго прихода.
— А, reverendissime!—закричалъ изъ подъ какой то „новитки“ отецъ Чимчикевичъ, издалека завидѣвъ вылѣзавшаго изъ брички патера Гаудентія.—ІІопеломъ, попеломъ ногы посыпаты такымъ ридкымъ гостямъ! Що за буры, що за тучы загнали васъ у нашы стороны, а?
Патеръ Гаудентій ничего не отвѣчалъ, но сладко улыбаясь, заключилъ старика въ свои распростертыя объятія.
— Просымо, просымо блыжче, не погордуйте нашымъ домомъ! упрашивалъ Чимчикевичъ, суетясь вокругъ іезуита.—Прокопе, гей, Прокопе,—обратился онъ къ своему старому слугѣ и сожителю,—а прыладь тамъ вивса и сина ихъ конямъ, и поможы порозпрягагы!
— А може воны заразъ поидуть, прошу его мосця?—лѣниво буркнулъ Прокопъ, непріязненно осматривая однимъ глазомъ непрошеннаго гостя.
— Ну, ну, поихаты поидуть,—возразилъ, добродушно улыбаясь, отецъ Чимчикевичъ,—на парахвію до насъ не пріихалы, то певно. Але й не заразъ поидуть, Прокопе, не заразъ! Такъ швыдко мы ихъ не пустымо. Гей Хвесько, а де ты, стара?
— Я ту, его мостыку! А чого вамъ?
— Прыладь потымъ, бабусю, де яку зàкуску, розуміешъ?
— Загнаты гуску?—переспросила глухая старуха, и Чимчикевичъ, не имѣя желанія кричать громче, пошелъ выяснять ей на пальцахъ, чего ему нужно.
— Вотъ вѣрный образъ всей этой церкви!—думалъ патеръ Гаудентій, присматриваясь и прислушиваясь ко всему, что происходило вокругъ,—выжившій изъ ума пастырь, и паства его на половину глухая, а на половину слѣпая.
Но вотъ о. Чимчикевичъ, торопясь и сѣменя ногами, взялся проводить патера въ свою комнату, служившею ему и спальней, и столовой, и канцеляріей.
— Сидайте, reverendissime, сидайте!—просилъ онъ, придвигая простой деревянный стулъ, покуда іезуитъ осматриватъ его жилище. Правду сказать, тамъ нечего было и осматривавъ. Комнатка небольшая, чисто и просто уставлена деревянной мебелью, деревянная кровать въ углу, прикрытая старосвѣтскимъ одѣяломъ сельской, но очень изящной работы, съ боку столикъ, заваленный метрическими книгами, на которыхъ, вопреки деревенскому обычаю, не было видно ни одной пылинки; въ другомъ углу небольшой стеклянной шкафчикъ съ книгами, а на стѣнѣ, подъ старинной иконой св. Николая, висѣлъ круглый и большой съ
телѣжное колесо овсяный вѣнокъ, переплетенный вѣтками красной калины. Посрединѣ комнаты стоялъ большой, четырехугольный столъ, накрытый мережаной скатертью, а на немъ, въ деревянной мискѣ, лежали только что вырѣзанные золотисто-янтарные соты, на всю комнату распространявшіе сильный медовый запахъ.
— Отже якъ знавъ, що гости будуть, такъ такы душа вищувала, весело сказалъ о. Чимчикевичъ.—Немовъ бы щось пхнуло мене по обиди: а пиды, выймы меду! А славный у мене медъ, reverendissime! Прошу лышень, будьте ласкави спробуваты!
Патеръ все еще сидѣлъ молча. Совершенная наивность и радушіе этого старика нѣсколько смутили его. Но искушенію душистыхъ медовыхъ сотовъ онъ не могъ противостоять.
Придвинувъ свой стулъ поближе къ столу, онъ взялъ изящную рѣзнаго дерева ложечку и, медленно высасывая медовые соты, началъ съ Чимчикевичемъ разговоръ, конечно, на томъ же русинскомъ нарѣчіи, на которомъ только что говорилъ послѣдній.
— Эге, панотченьку,—съ видомъ искренняго удовольствія началъ іезуитъ,—про це нема щойговорыты—славный у васъ медъ, славный! Не дурно про вашу пасику слава йде но цилій окрузи. Видъ разу выдно, що тямуща рука коло бджилъ ходыть!
— Пьятьдесять литъ, reverendissime, пьятьдесять литъ зъ бжоламы захожуся, то й якъ же мени не знаты ихъ натуры й звычаивъ?
— Пьятьдесять литъ!—вскрикнулъ патеръ, какъ будто Чимчикевичъ сказалъ ему какую нибудь поразительную новость.— Онъ якъ! Такъ вы уже пьятьдесять литъ священныкомъ?
— Э, ни, попомъ я вже пьятьдесять и пьять литъ,—просто отвѣчалъ о. Чимчикевичъ.—Аджежъ постійте, святывся я тоди, якъ Наполеона былы — пидъ Ватерло, чы де тамъ! То килько тому буде? Здается, въ 1815 було. А? Славный часъ бувъ, reverendissime! Не дай Боже дожиты другого такого.
— Такъ вы гадаете?
— А вжежъ, що не якъ. Ну, а котимъ пьять литъ кидалы мною по администраціяхъ. Назнався я биды—крый Господы! И горивъ, и тонувъ, и мерзъ, и мокъ, якъ то кажуть. И жинка покійныця
въ тій нужди померла, а жинка, reverendissime, у нашого брата перша и послидня. Ажъ тоди змылувались надо мною и дали оцю парахвію. И тутъ я, на сему мисци, пятьдесятъ литъ держуся. Якъ те боже дерево, де ёго Богъ посадивъ, тамъ и росте, доки его свята воля. Слава Ему и поклинъ. Чи якъ вы думаете, reverendissime, га?
— Тай село у васъ славне, ни що й казаты,—началъ іезуитъ, какъ будто продолжая развивать свою прежнюю мысль.—Произжаешъ—ажъ очы радуються. Поля оброблены, сады, огороды, хаты нови, скотынка сыта и гладка, всюды выдно достатокъ и благодать Божу....
— Що жъ, reverendissime, працюемо, якъ можемо. „Въ нотѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой“—чы якъ тамъ у пысьми сказано, га?... И о другыхъ не забуваемо.
— Чувавъ, панотченьку, чувавъ,—подхватилъ іезуитъ,—Панъ староста вашого громадою нахвалытыся не може. Чы податкы сплатыты, воны—каже—перши, чы порядки громадськи, дорогы, мосты—все у ныхъ якъ Богъ прыказавъ. А колы треба складкы якои, помогты тамъ чы погорильцямъ, чы тымъ, що повинь ихъ зруйнувала, чы биднымъ—Товстохлопы чысто по паньски дають.
— По людськи, reverendissime, по людськи, не по панськи! Паны на таки речы не дуже то щедри. А мы такъ, якъ Христосъ учивъ: що царське, те цареви, а що Боже—Богу. Чы такъ я говорю, га?
— Такъ то, такъ,—протянулъ патеръ, немного наклоняя голову па бокъ. Про те, що людське, а що царське, я зъ вамы не буду перечытысь. Ту ваши Товстохлопы можуть буты прымиромъ для всякой другой громады, и певно не за чіимъ прыводомъ, якъ за вантамъ. Се кождый прызнае. Але що дотыкается Божого, духовного.....
Патеръ не договорилъ, какъ будто стѣснялся затрогивать такой деликатный вопросъ. Но Чимчикевичъ, повидимомѵ, и не подозрѣвалъ здѣсь ничего деликатнаго и спросилъ безъ обиняковъ:
— Що жъ, маете мыни ще зъ того погляду закынуты? Говорить, я радо выслухаю.
— Н-ну, закинуты!—живо, какъ будто обидясь подхватилъ патеръ.—Яке я право маю вамъ закыдаты? Сохрани Господы! Я тилькы такъ... тее... отъ прымиромъ хоть бы й те! Окружный инспекторъ шкильный надывуватыся не може. Що се за дыво— каже,—таке село багате, порядне дбаюче, а отсе вже пьять литъ мучуся, прошу, напомынаю, и ніякымъ свитомъ не можу добытыся, щобъ школу у себе завело.
— Отъ що!—живо воскликнулъ о Чимчикевичъ.—Такъ се инспекторъ вамъ жалувався! А може й приславъ васъ сюды на те, щобъ уговориваты насъ школу заводыты?
— Ни, ни, панотче, де тамъ! Я до такой службы зовсимъ не гожый!
— Такъ я й думавъ,-—успокоясь сказалъ о. Чимчикевичъ.— А панъ инспекторъ, не кажучы ему лыхого слова, дурень, тай годи. Разъ ёму сказали, що докы винъ у насъ инспекторомъ, доты школы не заложымо, то чого бъ ёму ще морочыты? Я самъ, бачыться, доволи ясно ёму се выяснявъ.
-— Такъ ёму й видказалы? Ну, се цикаве дило!
— Ни, reverendissime, зовсимъ не цикаве. Не подобався панъ инспекторъ нашымъ людямъ, и не хочуть маты его за начальника надъ своею школою. А чому не хочуть, се ихъ дило. „Розвидувалы мы — кажуть — по сусидскыхъ селахъ, яки винъ тамъ порядки заводить, якъ зъ учытелямы обходиться и якъ имъ зъ дитьмы каже обходытысь, и бачымо, що мы бъ у себе такого не стерпилы. То липше нехай у насъ не буде ніякои школы, нижъ маемо разъ у разъ дертыся зъ инспекторомъ и поносыты кары Богъ зна за що!“
Патеръ Гаудентій только руками развелъ.
— Ну, признаюсь вамъ, се зовсимъ не рація. Прости хлопськи выкруты! Ще чого не ставало, щобъ кожный урядныкъ старався подобатысь своимъ пидвладнымъ! Сёго такы за багато! Ну, а що жъ вы па те, панотче? Не вже мовчалы? Думаю, що вашъ обовязокъ бувъ выясныты имъ, що таке вымогане, выбачайте, и дурне, и бизпидставне. Аджежъ такимъ робомъ черезъ свою прымху воны позбавляють усякои освиты циле пидростаюче поколине.
— Що жъ, reverendissime, зъ рукою на серди, я не мигъ имъ того сказаты.
— Не моглы? А то чому?
— Разъ тому, що ихъ правда, бо инспекторъ для людей, а не люде для нёго. А по друге—никого се не позбавыло освиты, бо въ нашимъ сели увесь народъ освиченый, вси диты вміють чытаты й пысаты далеко краще, нижъ но сусидныхъ селахъ, де е школы.
— Вси диты вміють чытаты й пысаты!—съ истиннымъ испугомъ вскричалъ патеръ.—А школы въ сели нема? Якъ же це сталося?
— Проста ричъ. Кождый батько й маты сами вчать своихъ дитей.
— А воны жъ видкы вміють?
— Ихъ я навчывъ. Видъ тридцати литъ у мене така встанова, що непысьменному нарубкови и ненысьменній дивци зъ свого села слюбу не дамъ.
Патеръ Гаудентій широко раскрытыми глазами смотрѣлъ на о. Чимчикевича, какъ на какое нибудь чучело заморское. Заморское же чучело въ свою очередь посматривало глупо— наивно на патера, какъ будто не понимая, чему тутъ удивляться. Помолчавъ такимъ образомъ нѣсколько минутъ, о. Чимчикевичъ выдвинулъ изъ подъ стола низкій табуретъ, втащилъ изъ сѣней корзину, полную до верху капустныхъ листовъ, и сѣлъ на табуретъ. Въ ту же минуту, какъ бы но данному знаку, изъ полуотворенныхъ дверей сосѣдней коморки ринулись въ комнату цѣлые десятки кроликовъ, и крупными скачками бросились къ своему хозяину. Струя кокого то непріятнаго, животнаго запаха ворвалась съ ними въ комнату, но о. Чимчикевичъ не замѣчалъ этого. Будто куча пушистаго, разноцвѣтнаго мха кролики укрыли старика. Одни вскочили ему на колѣни, другіе на плечи, на голову, на руки, прочіе же бросились къ корзинѣ и начали хрупать свѣжіе листья, махая своими длинными ушками и вытаращивъ десятки круглыхъ, влажныхъ глазъ на незнакомаго гостя.
— А тпрррусъ!—крикнулъ ласково о. Чимчикевичъ, отряхиваясь отъ мягконушистыхъ своихъ любимцевъ и выбрасывая имъ листья на полъ. Кролики всѣ разомъ соскочили съ его плечъ и колѣнъ и бросились хрупать, но нѣкоторые остановились передъ хозяиномъ, ставъ на заднія лапки и смотря ему прямо въ глаза, какъ будто прося не прогонять ихъ.
— Отъ бачыте, reverendissime,—улыбаясь прервалъ молчаніе о. Чпмчикевичъ,—тваръ безсловесна якъ, кажуть, а тако жъ де чому навчыться п прывычокъ набратыся може. Треба тилько, щобъ чоловикъ доложивъ старунку до всего, що робыть, щобъ душу свою вложывъ у дило, тоди й дило буде зъ душею, жыве. Онъ якъ! А хто душы своей въ дило не вложить, той и не найде іи, чы якъ вы думаете, га?
Неизвѣстно, запахъ ли кроликовъ, или этотъ постоянно повторяемый вопросъ, пли закравшееся въ душу патера подозрѣніе, что Чимчикевичъ не такъ глупъ, какъ представляется, или, наконецъ, все это вмѣстѣ довело патера до какого то нервно- возбужденнаго состоянія. Онъ началъ чего то безпокоиться и рѣшился скорѣе покончить этотъ разговоръ и прямо приступить къ дѣлу.
—- Зовсимъ зъ вамы згожуюсь, панотчыку,—произнесъ онъ совершенно другимъ, жесткимъ и полнымъ укоризны голосомъ.— Де священныкъ не додастъ своему стаду духа правдивой набожности, тамъ его й шукаты дарма.
О. Чимчикевичъ при этихъ словахъ сразу вскочилъ съ табурета, какъ отъ укушенія змѣи.
— Се... се... се... вы якъ, reverendissime?—спросилъ онъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ.—Се вы проты мене?
— Проты васъ — не проты васъ, а въ загали, — уклончиво отвѣчалъ іезуитъ.
— Значыть нибы, що я старый дурень, зъ бжоламы та кролямы панькаюсь, а своихъ парахвіянъ побожности не навчаю, га?
— Але жъ, панотче! Хто вамъ се каже?—вскричалъ іезуитъ.
— Знаю, reverendissime, знаю, хто се каже! И вы тилько що се сказаны! Що жъ, може воно й справди я дурень, ни до чого не прыгидный! Адже жъ двадцать литъ уже всяки добри прыятели пишутъ тай пышуть на мене доносы до консысторіи, що мов- лявъ, я неукъ, непотрибъ, казанъ у церкви не говорю, и Бигъ зна ще що выробляю. И все це „въ добрій думци“, якъ кажутъ. Тилько що певно нихто зъ ныхъ и не подумавъ, якъ то мени старому слухаты таки закыды. Аджежъ майте милосердье до мене! Бачыте, я вже одною ногою въ могыли, не ныни, то завтра передъ Богомъ на рахунокъ стану! Позвольте жъ мени спокійно вмерты! Не затроюйте мени тыхъ килька послѣднихъ хвиль! Хыба жъ я тому выненъ, що Господь десь тамъ забувъ про мене и не бере мене до себе?
Голосъ старика пресѣкся отъ волненія, и двѣ крупныя слезы скатились по его увядшимъ, морщинистымъ щекамъ. Іезуитъ сидѣлъ молча, потупивъ взглядъ и стараясь не смотрѣть на о. Чимчикевича.
— Знаю я добре—опять началъ немного спокойнѣе Чимчикевичъ,—що теперъ пастырямъ треба бильше знаты и вмиты, але я вже за старый, щобъ учытыся. Отъ хочъ бы й ся свята догматика! Ще въ семынаріи мало я еи знавъ, тай якъ тамъ насъ тоди вчылы! А описля й усе до решты забувъ. Ну, й яке жъ я казанье скажу своимъ мужыкамъ? Почну говорыты про догмы— боюсь, щобъ ще ереси якои не наплутаты. Ну, тоди бъ певно на мене посыпалось тилько жалобъ и доносивъ, що й у десятёхъ водахъ не обмывся бъ. Чытаты зъ казальныци те, що други понапысувалы и понадруковувалы—признаюсь вамъ и встыдно, и очи не служатъ, и все той клонитъ, що й ихъ я багато не розумію. А говорыты такъ, що на языкъ навернеся—и встыдно, и совисно. Я знаю, що бесидныкъ я не мудрый. Заснуть мои парахвіяне, ій Богу заснуть, колы почну имъ говорыты про те, що не вяжеся безпосередно зъ ихъ жыттемъ. Не маю того дару—говорыты плавно и до ладу о такихъ речахъ, що не торкаються зъ блызька до ихъ жыття. Ну, и скажить теперъ, геѵе- rendissime, що мени робыты! Дайте пораду! Чы гнивыты Бога, всуе прызываючы Его святе имя? Краще мовчаты и наклыкаты на себе гнивъ консисторіи.
— Певна ричъ—отвѣчалъ склоняясь патеръ—що бильшый грихъ гнивыты Бога, нижъ консисторію. Але чымъ же вы прогнивыте
Бога, колы всяку недилю будете навчаты своихъ парахвіянъ святій вири и жыттю христіянському?
—• Тымъ прогнивлю, пидчасъ мого казаня вси заснуть, а до того ще я й самъ ересивъ наплету, онъ що! Вже я себе знаю добре, и не порываюсь на те, чого мени Богъ не давъ. А прыкыдатыся, лукавыты душею, вчыты людей тому, чого самъ не знаю, на те я, reverendissime, за старый, сумлинне не позволяе.
— Мій Боже!—вскрикнулъ патеръ Гаудентій,—значить, ваши парахвіяне такъ такы й жывуть безъ наукы святой виры?
— Такъ такы й жывуть,—отвѣчалъ о. Чимчикевичъ, свѣсивъ голову на грудь.—Правда, правда, читаютъ уси и катехизисъ на память уміють, але бильше ничого й не знають, бо й я самъ бильше ничого не знаю, а навить и въ катехизиси не все розумію, то й не все можу имъ выясныты. Ну, що жъ робыты, reverendissime, колы не розумію? Брався читаты кныгы теологичны... Та куды тоби... Чы то очы у мене слаби, чы то памьять прытупылася, ни въ зубъ не розумію. А ту люде пріидутъ часомъ, пытаютъ: що воно се, а якъ розумиты те? ІЦо жъ я имъ скажу? Буду брехаты, колы самъ напевно не знаю? Отъ и говорю имъ начастише: „Диточкы мои, розумійте якъ хочете, а то й зовсимъ не розумійте, Богу се зовсимъ все одно. Винъ самъ сказавъ: „Нѣсть ваша разумѣти времена и лѣта.“ Такъ и лишить! Жыйте тилько по Божому, а тамъ уже якось воно та буде.“
Патеръ Гаудентій даже хлопнулъ себя по колѣнямъ.
— Бійтеся Бога, панотче, не вже вы такъ и говорите имъ?
— А якъ же? говорю, якъ сумлинне велыть.
— Ну, а повага церквы, котрій дана власть навчаты и вказуваты стежки Господни?
— Що жъ, reverendissime,—почти со слезами на глазахъ сказалъ Чимчикевичъ,— выдно, що Господь Богъ не хотивъ даты мени повагы, колы не давъ умення. А коли не давъ, то видкы жъ я визьму, а?
— Въ такимъ рази вы повынни покинуты се мисце, до котрого почуваете себе неспосибнымъ. Ваше сумлинне день и ничъ повинно васъ мучыты за той грихъ, що вы займаете таке важне мисце, а не сповняете привязанныхъ до него обовязкивъ. Адже жъ вы отакъ доводите свою духовну паству до страшной безодни невиры, варварства, здычинпя! Бо чымъ е чоловикъ безъ виры якъ не звиремъ? Власне сумлинне повынно вамъ се казаты!
— Ну, що жъ, reverendissime, колы мое сумлинне ничого такого мени не говорыть?
— Якъ то не говорыть? Для чого?
— Бо мои парахвіяне дуже далеки видъ невиры, безувирства чы якъ вы се такъ дывненечко назвали, reverendissime, га?— далеко дальній, нижъ парахвіяне другыхъ церквивъ, котри що недили по дви годыни дримають на проповиди. Я вчу, не проновидую, а такъ по просту, въ розмовахъ про домашни, блызьки всякому речи. Се я добре знаю и воны розуміють. „Не крады, не пый, не проклинай, не бый, другому въ биди допомагай!“... Чы повирыте, reverendissime, що за десять литъ зъ нашого села нихто въ крыминали не сыдивъ? Видъ 30 литъ ани одного жыда у себе не маемо— выгнали! Школы на маемо, а за то чытальня яка! Правда, смишно воно, але що зъ того? Кому смишно, той нехай сміеся!
— Гарно то все, гарно,—соглашался патеръ,—але всего сёго ще не досыть.
— То правда, що не досыть,—живо подхватилъ о. Чимчикевичъ, съ лукавой улыбкой поглядывая на іезуита.—А вы, reverendissime, произжалы черезъ наше село? И бачылы яке воно? Не мовъ одынъ садъ, въ которому ту и тамъ порозкыдани хаты. А до того ще зъ обохъ бокивъ обрамоване цилымъ лисомъ овочевыхъ деревъ! Що, може, брешу? А знаете, reverendissime, якъ зовеся той лисъ? „Покутный“, онъ якъ. А чому? Пустопашъ тамъ була, колы я сюды прыбувъ, такъ, такъ и звалась Неужытокъ. А отсе я на сповиди замисцъ звычайнои покуты: пять разъ Отче нашъ, пять разъ Богородыце, а разъ Вирую—зачавъ кождому завдаваты таку покуту, щобъ зразу коло своей хаты, а дали й на тій пустоши засадивъ або защепывъ одно овочеве деревце, а за тяжчый грихъ, той килька. Ну, черезъ 50 литъ и лисъ вырисъ, и все село обсадылы, де тилько було яке вильне
мисце. За овочи съ Покутного селяне касу заложили таку, що зъ самихъ процентовъ уси додатки краеви, повитови, громадськи и шкильни оплачують, а що роздается биднимъ та потрибнымъ, се и въ коляду не кладу. Якъ же вамъ здаеся, reverendissime, чи мыла Богу така покута, чи ни?
— Не хулить Бога, панотче!—строго возразилъ патеръ.—Хто може знати, що миле Богу, а що ни? Хто постыгне глыбину путивъ Господнихъ? Але на килько мій слабый розумъ може судыты, то кажу вамъ смило: не мыла и не може буты мыла!
— Не мыла? А то чому? съ нескрываемымъ удивленіемъ спросилъ о. Чимчикевичъ.
— А тому, що до покути Богъ вымагае сердця сокрушенного и смиренного, а вы що даете Ему? Дали Богъ жадае, щобъ чоловикъ якъ мога видрывався видъ усего земного, видъ свитовои суеты, а вы своею роботою хиба жъ не прывязуете ихъ сердя ще бильше до сего свита? Ни, отче, хибна ваша дорога! Богъ не може благословыты такого дила. Протывно, Богъ уже теперъ простеръ надъ вами свою руку, посылае намъ вищунивъ свого гниву, и горе вамъ, колы завчасу не покаетеся и не вернете на нутъ правды!
При этихъ словахъ патеръ невольно всталъ и протянулъ правую руку впередъ. Лице его сіяло, глаза блистали, на челѣ и устахъ нависла суровость разгнѣваннаго судьи.
— Вищунивъ? Якыхъ вищунивъ?—дрожа и блѣднѣя, спросилъ о. Чимчикевичъ.
— То то й горе, що вы ихъ не бачыте! Посылае найстрашнійшу духову заразу: духову слипоту, двоевирство и байдужнысть!
— Двоевирство и байдужнысгь? Якъ же вы се розуміете?
— Зовсимъ по просту. Ваша паства не вміе видрызныты доброго видъ злого. Христа видъ Беліала, святой виры католыцькои видъ схызмы. Ваши духовна овечкы любисинько ходятъ за граныцю на православны службы Божы. Хыбажъ се ничого?
— А, такъ отъ про що вы!—произнесъ Чимчикевичъ, вздохнувъ свободнѣе и съ облегченнымъ видомъ.—Ну, се, здаеся, не такый ще тяжкый грихъ.
— Не тяжкый грихъ?—вскрикнулъ патеръ.
— Думаю, що ни. Аджежъ и тамъ одного Бога хвалятъ, ще й такъ само, якъ у насъ.
— Одного Бога!—-озлился патеръ. — Отъ и туркы такожъ одного Бога хвалятъ. То вы певно позволылы бы своимъ парахвіанамъ и на турецьке богомолле ходыты.
— Ну, reverendissime, се вже вы далеко зайшлы. Я позволяю имъ ходыты на латынську службу, тилько що воны самы не радо йдутъ туды, бо ничого тамъ не розуміють. А православна служба така сама, якъ наша, а тыхъ догматычныхъ тонкостивъ, що розрижняють насъ, ани я самъ не второпаю, ани мои мужики.
— Эхъ, панотче, панотче!—съ сожалѣніемъ произнесъ патеръ Гаудентій, кивая головой,—и вы се говорыте! Вы, католыцькый священныкъ, можете такъ говорыты, а навыть такъ робыты!
— Щожъ, reverendissime, якъ хто вміе, такъ и піе! Щожъ я выненъ, що говорю и роблю тилько те, що знаю?
— Значитъ треба розшырюваты свое знаніе, або...
— А бо що?
— Або постаратысь о когось, хто бы вамъ допомигъ.
— А...хтожъ мени допоможе?—пренаивно спросилъ Чимчикевичъ.
— Ну, се хыба велыке дило? Отъ и я самъ готовъ.
— Вы, reverendissime? А то якъ?
— Можу вамъ зобовязатыся хочъ и що недили говорыты въ церкви казаня, а не тылько завтра.
— Завтра, якъ то? Не тылько завтра?—съ удивленіемъ спрашивалъ Чимчикевичъ.
— Ну, такъ! Адже жъ я того й пріихавъ!—отвѣчалъ патеръ, въ свою очередь удивленный удивленіемъ Чимчикевича.
— Чого пріихалы?
— Щобъ завтра казаты казанне въ вашій церкви. Адже жъ вы вже о тымъ увидомлены?
— Я? Сохраны Господы! Я увидомленый?
— Ну, такъ! Адже жъ нашъ пріоръ, знаете, въ Тернополи, мавъ пысаты вамъ о тымъ!
— Вашъ пріоръ? Во имя Отца и Сына!... Алежъ я не знаю вашого пріора.
— Якъ то, не вже винъ не писавъ вамъ? Не вже вы не дисталы ніякого пысьма?
— ІІысьмо якесь я на сёму тыжни диставъ, — отвѣчалъ съ смущеннымъ видомъ Чимчикевичъ,—але я незнавъ, видъ кого воно и про що пысане.
— Якъ то не зналы?
— Та такъ, що не знавъ! Бачыте, ось воно! Що я намучывся, щобъ прочытаты, и литеры, здаеся, де-якы розбыраю, а слова хоть бы тоби однысенько! Ниде гриха диты, плюнувъ я на нёго, тай сховавъ. Ось вамъ воно, погляньте, чы се видъ вашого пріора?
И о. Чимчикевичъ подалъ патеру измятое, засаленное письмо пріора. Тотъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на него и только ахнулъ: письмо писано было по латыни, которую Чимчикевичъ еще полвѣка тому назадъ успѣлъ перезабыть всю безъ остатка.
— Отъ воно якъ!—произнесъ патеръ послѣ минутнаго молчанія, успѣвъ проклясть въ душѣ хитраго пріора, который сыгралъ съ нимъ такую шутку,—що жъ теперъ буде?
— Не знаю, reverendissime!
— Я, конче, мушу завтра сказаты проповидь у вашій церквы. Мени моя власть наказала.
— Щожъ, смиренно отвѣчалъ Чимчикевичъ,—зъ Богомъ, reverendissime. Тилько що мени моя власть скаже?
— Ваша власть? Яка?
— Ну, митрополитъ, консысторія. Чы може вы маете ихъ дозвилъ?
— Ни. А хыба жъ се не видъ васъ залежыть?
— А вжежъ, що ни. Безъ вызшого дозволу я не можу допустыты священныка другого обряду проповидаты въ моій церквы.
Патеръ Гаудентій стоялъ, какъ пришибленный. Вотъ тебѣ на! Отъ такой пустой формальности должна была бы погибнуть его миссія. Ахъ, и всегда эти пустяки должны его преслѣдовать, эти мелочи жизни, на которыя онъ не обращаетъ вниманія и которыя иногда могутъ все дѣло попортить. Но нѣтъ, этого не
можетъ быть, по крайней мѣрѣ теперь! Въ какомъ то нервномъ возбужденіи началъ онъ шагать по комнатѣ, придумывая, что тутъ дѣлать. Вдругъ онъ остановился передъ Чимчикевичемъ.
— Такъ се вы кажете, що не маете права допустыты мене до проповидання въ вашій церквы?
— Ни, reverendissime, не маю.
— Ну, а коло церквы, на цвынтари можу проповидаты?
— Тамъ можете.
— Ну, ось и гарно. Буду проповидаты на цвынтари.
—- Добре. Тылько знаете, reverendissime, я чоловикъ старый, слабый, боюсь, щобъ не було мени за се якои халепы.
— Видъ кого?
— А отъ, хоть бы видъ пана старосты. Знаете, на цвынтари будь що будь, мисце публычне, а проповидь, будь що будь, бесида. А староста у насъ острый, службыстый. Набижыть и запытае: а ще се у васъ, отче, безъ дозволу власти на публычному мисци якись зборыща збыраются, бесиды говориться. И що жъ я на се скажу?
— Смійтеся зъ того, панотче!
— Ну, вы соби, reverendissime, смійтеся на здоровье! А по мни мурашкы бигають. По що мени клопоту на здорову голову? А липше знаете що? У васъ кони добри, брычка легенька, дорога теперь добра. Отъ вы,—не въ гнивъ вамъ кажучы,—идьте до города и добудьте дозвилъ видъ пана старосты. А я дуже радо зроблю все, що видъ мене буде залежаты. Потрудиться, reverendissime, нехай се буде Богу на славу, а для мене старого спокійнишъ.
Патеръ Гаудентій думалъ было сначала сопротивляться и убѣждать Чимчикевича, что опасенія его напрасны, по едва уловимая ироническая нотка въ послѣднихъ словахъ „попа“ поразила его, какъ молнія. Сразу онъ почувствовалъ, что слишкомъ мало цѣнилъ этого старика, и что за той дѣтской простотой и наивностью у него кроется нѣчто болѣе глубокое, какое то совсѣмъ недюжинное „себѣ на умѣ“. Не говоря ни слова болѣе, красный и озлобленный, патеръ схватилъ шляпу и выскочилъ на крыльцо.
— Запрягаты!—крикнулъ онъ вовсе горло, увидя, что солнце уже начало опускаться, и соображая, что до города добрыхъ верстъ пятнадцать.
— Вотъ проклятый попъ, ворчалъ онъ себѣ подъ носъ, дожидаясь, покуда запрягутъ его бричку. Замучилъ меня совсѣмъ. Кажется—глупъ, какъ пень, а между тѣмъ онъ тягучъ, какъ лыко. Да и я то хорошъ, что такъ долго съ нимъ церемонился, времени сколько понапрасно потратилъ! Чортъ бы его побралъ съ этимъ позволеніемъ—нашелъ, что выдумать! И какъ это мнѣ управиться сегодня?...
— А що, прошу его мостя, чы я не говорывъ, що воны скоро поидуть?—говорилъ, осклабляясь, Прокопъ Чимчикевичу, запирая ворота за отъѣзжающими гостями.
— Такъ то, такъ, Прокопе,—грустно сказалъ о. Чимчикевичъ,— поихалы то воны поихалы, але не сёгодни, такъ завтра зновъ вернуться.
— А пай Богъ бороныть!—крикнулъ Прокопъ.—А чого имъ видъ насъ треба, прошу его мостя?
— Чого?—повторилъ о. Чимчикевичъ.—Чого? пытаетъ. Слухай же, Прокопе! Ты мене давно знаешъ. Якъ ты гадаетъ, дбавъ я о громадянахъ, учывъ ихъ добру, дававъ имъ добрый прыкладъ? Бувъ я для васъ добрымъ попомъ?
— Падлюка бувъ бы той, хто инакше говорывъ!—вскричалъ Прокопъ.—Не попомъ, а батькомъ риднымъ! отъ чымъ вы булы для насъ!
— Ну, не говоры такъ, Прокопе. знаю и свои хыбы. Але того, що мени сей іезуита сказавъ, я до нынишнёго дня не знавъ и не думавъ.
— То се іезуита? А що жъ виyъ вамъ сказавъ?
— Сказавъ, що мои парахвіяне Бога не знають, въ двохъ богивъ вирять, а то тому, що и ту и до Почаева до церкви ходятъ, а въ Почаеви, мовлявъ, уже не той Богъ, що ту. Чуешъ, небоже? И за се, грозывъ, не мыне насъ кара Божа.
— Отъ що винъ вамъ крякавъ! О, крягалы бы надъ нымъ вороны!
— Не клены, Прокопе! И для того, говорывъ, треба насъ усихъ просвищаты, навернуты на правдыву езуитьску виру, и винъ се зробыть.
— Винъ, а не дождавъ бы! А якъ же винъ насъ навертатыме?
— Буде вамъ що недили казання говорыты.
— Тылько всего? Ну, чувалы мы ихъ казання! Се ще не велыкый страхъ! Нехай соби говорить. Я думавъ, що може до староства наказъ пріиде, а староство жандарамъ накаже. Отъ тоди справди бувъ бы клонитъ, бо не тылько бы навернулы, килько обдерлы. А казання—нну! И, махнувъ рукой, Прокопъ побрелъ во дворъ къ своему дѣлу. А о. Чимчикевичъ долго еще сидѣлъ на крылечкѣ своей старой избы, подъ тѣнью густо вьющейся, цвѣтущей квасоли, — сидѣлъ и думалъ о неожиданномъ визитѣ іезуита, о разговорѣ съ нимъ и его странномъ намѣреніи.
— Ой, не проста, не прынадкова то ричь,—думалъ онъ. Не на мене одного гострять зубы ти іезуиты, — только здаесь, що мене першого хочуть проковтнуты. Що жъ, Божа воля. Просывъ я Господа, щобъ дозволывъ мени вмерты супокійно, та здаесь, що за мои грихы не выслухавъ мене Богъ. Прыйдесь мабуть власными старымы очыма побачыты ще початокъ новой боротьбы, а може и свои стари кости въ ній зложыты. Ёго свята воля! А люта буде боротьба, страшна! И хто то въ ній переможе? Находыть на насъ чорна хмара зъ заходу, гризна, узброена просвитою, хытрощамы, интригою, протекціямы и всякымы мудрыми штукамы, а що жъ мы насупротивъ неи поставымо? Находыть велыка пошесть, страшна чума, котра може знесты насъ зъ лыця земли, якъ вода злызуе мулъ. А якъ же жъ мы видъ неи охоронымось, де найдемо на неи ликъ?...
И о. Чимчикевичъ взялъ старый молитвенникъ въ деревянномъ, холстомъ обшитомъ переплетѣ, писанный крупнымъ, красивымъ почеркомъ на древней толстой бумагѣ. Это была единственная вещь, которою онъ владѣлъ и дорожилъ болѣе всего на свѣтѣ. Старикъ открылъ книгу и началъ медленно, громко и выразительно читать. Молитва его успокоила, тяжелое впечатлѣніе, произведенное іезуитомъ, разсѣялось. Какъ то невольно взоръ Чимчикевича остановился на послѣднихъ листахъ молитвенника, гдѣ самъ онъ, по старымъ запискамъ, документамъ и разсказамъ старожиловъ списалъ болѣе, чѣмъ 300-лѣтнюю лѣтопись села
Товстохлоповъ. Одна страница этой лѣтописи привлекла его вниманіе. Прочитавъ ее, онъ тихо захохоталъ. Какая то новая мысль блеснула въ его головѣ. Онъ еще разъ прочелъ эту страницу и еще разъ улыбнулся.
IV.
Было воскресенье. Прекрасный лѣтній день. На небѣ не видно ни одной тучки. Темной, густой зеленью укрывали вѣковыя липы старую, но въ хорошемъ порядкѣ содержанную, товстохлоповскую церковь съ ея краснымъ желѣзнымъ куполомъ и золоченымъ наверху крестомъ. Возлѣ церкви небольшая приземистая колокольня блестѣла новой мѣдной крышей. Изъ церкви раздавалось громкое на все село протяжное пѣніе литургіи: въ церкви пѣли всѣ, кто только могъ, мужчины, женщины, мальчики и дѣвочки гармоническимъ хоромъ. Казалось, что огромная волна тѣхъ голосовъ раздвигаетъ стѣны старой церковки и подноситъ ее на себѣ вверхъ. Съ боку возлѣ крылоса стоялъ высокій и черный патеръ Гаудентій съ какимъ то набожнымъ, угрюмымъ лицомъ и ждалъ, покуда окончится „служба Божа“. Много онъ натерпѣлся вчера; поздно ночью пріѣхалъ въ мѣстечко и кое какъ переночевалъ въ дрянномъ жидовскомъ трактирѣ. Утромъ набѣгался, пока разбудилъ старосту и получилъ отъ него позволеніе произнести рѣчь въ публичномъ мѣстѣ. Но все таки поставилъ на своемъ и вернулся во время. Сначала онъ очень боялся, чтобы Чимчикевичъ не устроилъ ему штуки и не отслужилъ службу пораньше, такъ что, пріѣхавши, онъ застанетъ только запертыя двери и никого больше въ церкви. Но нѣтъ, Чимчикевичъ поступилъ совершенно лойяльно и даже послѣ заутрени цѣлый часъ ждалъ его пріѣзда. Это немного примирило патера, хотя до сихъ поръ не могъ онъ еще простить Чимчикевичу вчерашняго безпокойства.
Вотъ о. Чимчикевичъ дрожащимъ голосомъ прочиталъ евангеліе. Патеръ подумалъ, не начнетъ ли онъ самъ теперь говорить проповѣдь, но нѣтъ, служитъ дальше. Вотъ и служеніе оканчивается. Послѣ причастія патеръ вышелъ изъ церкви. Близко
возлѣ колокольни между двухъ огромныхъ лицъ лежала большая, четырехугольная, въ аршинъ вышиной плита, какой то старый, надгробный камень. Патеръ взошелъ на нее,—это будетъ его каѳедрой. Вынулъ изъ платка „комжу“ (стихарь) и надѣлъ ее сверхъ „сутанкы“ (рясы). Отоя высоко на плитѣ, съ блестящимъ на солнцѣ, гладко выбритымъ теменемъ („беретъ“ онъ забылъ взять съ собой), онъ казался высокимъ, какъ верстовой столбъ, и грознымъ, какъ привидѣніе. Солнце подходило къ полудню и жарило немилосердно. Въ тѣни липъ чирикали воробьи. Масса красныхъ большихъ насѣкомыхъ лазила на могилкахъ, наполняя всѣ отверстія и тѣнистыя щели въ деревянной оградѣ. Ни малѣйшаго освѣжающаго вѣтерка. Листья не колыхались, точно замерли. Патеръ какъ разъ стоялъ на такомъ мѣстѣ, гдѣ за цѣлый полдень не падала тѣнь. У него на лбу, вискахъ и рукахъ началъ выступать потъ мелкими блестящими капельками; онъ съ нетерпѣніемъ прислушивался къ пѣнію, которое ручьемъ лилось изъ церкви.
Уже прочитана „заамвонная молитва“, но вдругъ патеръ съ досады чуть не выбранился громко:—раздалось въ церкви: Радуйся Николае, великій чудотворче!
— Съ ума сошелъ попъ, что ли! Понадобилось ему сегодня акафистъ читать!
Но гнѣвъ былъ напрасенъ. Надо было ожидать конца акафиста. А о. Чимчикевичъ, будто нарочно, каждое слово произносилъ протяжно, отчетливо, какъ будто подозрѣвалъ, какимъ мученіямъ подвергается патеръ Гаудентій! Цѣлые полчаса длился акафистъ; а какъ за то время измучился патеръ на своемъ каменномъ возвышеніи на солнечномъ припекѣ—того ни перомъ описать, ни въ сказкѣ разсказать. Съ удовольствіемъ слѣзъ бы онъ съ камня и сѣлъ бы въ холодку подъ колокольней, если бы не толпа дѣтей и старшихъ дѣвушекъ, которыя повыходили изъ „бабинця“ и стали на крылечкѣ, крестясь и постоянно посматривая на него. При нихъ слѣзать неловко. Патеръ разъ двадцать въ душѣ посылалъ ихъ къ чорту, но это мало помогало. Мелкія потныя капельки давно уже превратились въ ручейки, которые тихо сплывали внизъ по щекамъ, затылку, груди. Ру-
башка на немъ была совершенно мокрая и прилипала къ тѣлу, кровь усиленно билась въ вискахъ, голова горѣла, въ ушахъ шумѣло, въ горлѣ пересохло—патеръ серьезно началъ побаиваться солнечнаго удара или какой нибудь скоропостижной болѣзни. Ну, слава Богу! Наконецъ то окончился акафистъ,—онъ вздохнулъ свободнѣе. Но что же это? Въ церкви пѣніе стихло, что то говорятъ. Можетъ ли быть? О. Чимчикевичъ началъ проповѣдь! Патеръ иронически улыбнулся, вспомнивъ разсказы о его рѣчахъ. Эта, вѣроятно, не будетъ длинная,—подумалъ онъ. А все же жаль, что я не въ церкви—интересно было бы послушать! Дѣйствительно, стоило послушать эту проповѣдь.
— Дитонькы мои, говорилъ о. Чимчикевичъ,—вычытавъ я отсе въ старыхъ паперахъ, що ныни якъ разъ сто литъ мынае.... Эге, сто литъ, якъ одынъ день!—якъ у нашому сели Товстохлопахъ выбухла страшна пошесть, чума. Пивъ села вымерло за одынъ тыждень. Трыста висимдесятъ душъ безъ сповиди и прычастя святого. Нехай насъ усихъ Богъ бороныть видъ такого, небожата! А якъ гадаете, дитонькы мои, чы негодылось бы намъ якъ небудь видсвяткуваты столитню памятку такого велыкого нещастя?
Народъ стоялъ, и крестился набожно и воздыхалъ отъ глубины души.
— Такъ слухайте жъ, якъ я про се думаю, дитонькы! продолжалъ о. Чимчикевичъ. Видправмо молебень съ колѣнопреклоненіемъ—за ти померши душеньки, а описля выберить соби кильканадцять парубкивъ, що дужшыхъ, зрозуміете? И нехай воны за чергого до самого вечора звонятъ, не вгаваючи. Нехай ти голосы идутъ до Всевышвёго Бога и сповистять тыхъ нашыхъ небижчыкивъ, що мы й по 100 литахъ не забулы про ныхъ. Нехай се буде Богу на хвалу, щобъ Винъ змылувався надъ нами и видвернувъ видъ насъ усяке лихо, всяку чуму тилесну й духову. Амынь.
Послѣ этихъ словъ зазвонили колокольчики мелкіе, церковные, далѣе отозвалась тонкая „сигнатурка“ въ церковномъ куполѣ, а за ними загремѣли густые голоса изъ колокольни. Народъ палъ на колѣни и панихида началась. Патеръ смотрѣлъ удивленно, не понимая, въ чемъ дѣло, не зная, стоять ли ему или
тоже стать на колѣни. Наконецъ, и онъ преклонился на своемъ камнѣ. Окончилась панихида, окончилась „служба Божа“, но колокола какъ гудѣли, такъ и гудятъ. Крестясь, двинулся народъ изъ церкви, дѣвушки въ бѣлыхъ платкахъ и разноцвѣтныхъ ленточкахъ пестрѣютъ, какъ макъ; за ними показались женщины въ бѣлыхъ „намиткахъ“, засѣрѣли мужчины въ темныхъ свиткахъ; дѣти кучами разбѣжались по кладбищу. Патеръ стоялъ па камнѣ, облитый солнечнымъ сіяніемъ, и перекрестился. Народъ съ любопытствомъ столпился вокругъ него,—а колокола гремятъ, не смолкая. Съ лукавой улыбкой тѣснятся парубки къ колокольнѣ, стучатъ тяжелыми сапогами, подымаясь вверхъ по крутой лѣсенкѣ; тѣ же, что уже влѣзли, повыставили головы изъ всѣхъ оконъ и отверстій и съ неменьшимъ любопытствомъ смотрятъ на іезуита. Среди гулкаго звона колоколовъ слышится ихъ громкій смѣхъ. Собралось множество народа, патеръ перекрестился еще разъ, потомъ удивленно посмотрѣлъ па колокольню, какъ бы спрашивая глазами, когда же перестанутъ тамъ звонить. А колокола и не думаютъ переставать, звучатъ, что есть силы. А хорошіе, густые и громкіе колокола были на товстохлопской колокольнѣ,— разсказываютъ, отлитые изъ бывшихъ козацкихъ пушекъ, которыя остались здѣсь въ болотахъ послѣ какой то битвы, а позднѣе отысканы были мужиками. Хорошіе, громкіе колокола! Какъ всѣ семь разомъ зазвонятъ, такъ возлѣ колокольни своего собственнаго голоса не услышишь, а звукъ ихъ слышно въ семи окружающихъ деревняхъ...
Патеръ перекрестился третій разъ.
— Во имя Отца и Сына, началъ онъ громкимъ голосомъ,— но куда тебѣ! за колоколами ничего не слышно.
— А що, не перестанутъ воны тамъ звоныты? крикнулъ онъ погромче окружающей его толпѣ.
— Га, що, якъ?—закричали ему въ отвѣтъ люди.
— Не перестануть звоныты? рявкнулъ что есть силы патеръ.
— Перестануть!
— Колы?
— У вечери?
— Якъ то въ вечери? А чому жъ се?
— Чуму проганяемо.
— Яку чуму?
— Сто литъ тому! Чума була! Триста душъ безъ сповиди! За души померши! Чуму проганяемо!—такія отрывочныя фразы разобралъ патеръ изъ смѣшаннаго крика народа. Сразу догадался онъ, что это новая выдумка Чимчикевича. Глаза его зажглись гнѣвомъ, и онъ соскочилъ съ камня на землю.
— Я вамъ маю говорыты проновидь,—заговорилъ онъ ласково народу.
— То говорить!—послышались голоса изъ толпы.
— Якъ же мени говорыты, колы звонять? Скажить, щобъ перестали!
— Ни, не можна.
— Але мени самъ староста позволивъ говорыты.
— То говорить!
Изъ средины толпы раздавался все большій смѣхъ. Колокольня была переполнена молодежью, среди которой каждое движеніе и слово патера возбуждали неудержимые взрывы смѣха и веселья. А звонъ не переставалъ ни на минуту. Патеръ увидѣлъ, что трудъ его напрасенъ, напротивъ, чѣмъ больше онъ будетъ злиться и выходить изъ себя, тѣмъ его положеніе будетъ смѣшнѣе. И онъ рѣшилъ, что лучше уступить на этотъ разъ, съ тѣмъ, чтобы въ другой разъ тѣмъ вѣрнѣе одержать побѣду. И, сладко улыбаясь, заговорилъ:
— Ну, звонить соби, звонить, я прыиду на другу недилю. Богъ зъ вамы!
Но, садясь въ бричку, которая здѣсь же за оградой ожидала его, онъ стиснутымъ кулакомъ погрозилъ въ сторону приходскаго дома и злобно проворчалъ:
— Поче́кай, ты стàры шызмàтыку, я це́бе нау́ченъ.
Миронъ.
18.09.1889