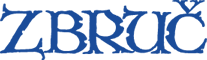КАРТИНКА ИЗЪ ГАЛИЦКОЙ ЖИЗНИ.
Яць (Яковъ) Зелепуга былъ мужикъ изъ рукъ вонъ плохой. Кому приходилось лѣтъ 30 тому назадъ проходить черезъ Бориславлъ, тотъ навѣрно могъ услышать въ кабакѣ или возлѣ кабака пьяный, охрипшій голосъ, выводящій одну и ту же меланхолическую пѣсню:
Ой не жалуй, моя мыла,
Що я пью,
Тогды будешъ жалуваты,
Якъ я вмру.
Любопытный могъ всегда увидѣть и самого пѣвца, или сидящимъ съ опущенною головою въ кабакѣ за столомъ и ударяющимъ кулакомъ по столу въ тактъ своей пѣсни, или идущимъ невѣрными шагами по улицѣ, нерѣдко прерывая свою пѣсню короткими монологами, въ родѣ слѣдующаго:
— Проклятые пархи, жиды! знаю я, знаю, чего вамъ хочется! Але го, го! Не дождетесь! Яць Зелепуга — не мягкій хлѣбъ, чтобы лѣпить изъ него кониковъ!.
Остановится на минуту, и широко разставивши ноги, чтобы удержать равновѣсіе, снова затянетъ охрипшимъ голосомъ: „Ой не жалуй моя мыла“... но тутъ же оборветъ.
— Эге, не жалуй! То то и есть, что некому уже и жаловать. Пошла: моя милая къ пану Богу, а мнѣ теперь все одно. Немного тамъ осталось достатку, такъ па бѣса онъ мнѣ. Кому оставлю свои заработки? Своего роду нѣтъ, а женинъ родъ—ге, ге! не дождетесь, богачи, попользоваться моимъ скарбомъ. Лучше пропущу черезъ горло все—и скотъ, и хозяйство, и землю! Пускай пропадаетъ, пускай не будетъ вашимъ! Ой, бо то вы намъ залылы сала за шкуру, богачи—клапачи!
Снова оборветъ и затянетъ пѣсенку, размахивая кулаками:
Еденъ богачъ у другого
Тай пытаеся,
За що тая голотонька
Напиваеся?
Ой най тоби, богачыку,
Въ очахъ не стае,
Що голота гирько робыть,
Та солодко пье!.
Плохой былъ мужикъ Яць Зелепуга! Правда, пока жива была его жена, онъ велъ себя примѣрно. Хоть у него было всего шесть морговъ (ок. 2½ десятинъ), но хлѣба онъ ни у кого не занималъ. Было ихъ двое,—что заработаютъ, то и есть. Жили они бережливо, спокойно, работали на своей землѣ и сосѣди ихъ уважали. Дѣтей у нихъ было много, но всѣ умерли; послѣдняя дочь умерла восемнадцати лѣтъ. Смерть этой дочери была первымъ ударомъ, обрушившимся па счастливую до сихъ поръ жизнь Зелепуги. Жена его была изъ богатаго дома въ Бориславлѣ; у нея было три брата—богатые хозяева. Своему мужу она принесла въ приданое другіе шесть морговъ, граничившихъ съ его землей. Но по смерти послѣдней дочери Зелепуги, шурины—богачи начали требовать назадъ свою „родовую “ землю.
— Зачѣмъ вамъ?—говорили они ласково, —вы оба уже стары, дѣтей у васъ нѣтъ, доживете свой вѣкъ и на тѣхъ шести моргахъ, что вамъ останутся, а у насъ у каждаго много дѣтей.
Послушалась Евка, подписала несчастную дарственную запись. Братья, получивши „батьковщину“, немедленно продали ее евреямъ для разработки нефти. Такой поступокъ глубоко оскорбилъ обоихъ Зелепугъ.
— Какъ же, панове-швагрове,—говорилъ имъ Яць, встрѣтивши ихъ въ кабакѣ.—Развѣ по божески и по людски можно дѣлать такъ, какъ вы сдѣлали съ нами? Развѣ мы на то отдали вамъ часть своей батьковшины, чтобы на ней жиды ямы копали, а вамъ чтобы было на что пьянствовать?
— Иди, старый дурню!—огрызнулся одинъ изъ нихъ.— Вы намъ уступили при людяхъ, а для чего уступили—о томъ не было и рѣчи. А разъ вы уступили—поле наше, а разъ оно наше—мы вольны дѣлать съ нимъ, что хотимъ.
— Неправда!—отрѣзалъ Яць.—Мы только для того вамъ уступили, чтобы вашимъ дѣтямъ было гдѣ поселиться. Продать жидамъ—не велика штука, это каждый съумѣетъ.
— Видно, что не каждый,—сказалъ, смѣясь, другой шуринъ,— если вы не съумѣли, а только мы.
— Смѣйтесь себѣ, смѣйтесь, а я даромъ этого не пропущу.
— А что же ты сдѣлаешь?
— Я уже знаю, что сдѣлать; только не знаю, сладко ли вамъ это будетъ?
— Иди, старый, иди не робы зъ себе дурня.—сказалъ третій шуринъ, фамильярно ударивъ его по плечу.—Лучше сядь съ нами да выпей по пивкватырци, а що зъ воза упало, то пропало.
— Сѣсть то я сяду,—гнѣвно отвѣтилъ Яць,— и выпить— выпью, а отъ правды не отступлю. Созову людей, свидковъ, пускай они разсудятъ, справедливо ли ваше дѣло.
— Ну что жъ, зови, пускай судятъ!— сказалъ старшій.— Только заранѣе тебѣ говоримъ, что намъ наплевать на этотъ судъ. Ну что намъ сдѣлаютъ? Или, можетъ быть, они сами сложатся и выкупятъ у жидовъ землю?
Правду сказать, Яць Зелепуга о землѣ и не думалъ. Его оскорбляла только „неправда" и хитрость шуриновъ. Онъ хотѣлъ только показать неправду передъ людьми и свидѣтелями, но выйдетъ ли изъ того какой прокъ—онъ не заботился. Поэтому слова шурина поразили его, какъ ударъ грома. Онъ пошатнулся и окинулъ всѣхъ трехъ подозрительнымъ взглядомъ.
— А, вотъ оно какъ! плюете на людей, на громаду! А Юды якись! А плювавъ бы на васъ свитъ у весь! Батьковскую землю жидамъ продали и смѣются! А щобъ васъ та земленъка свята по смерти зъ гробивъ повыкидала!
Слово за слово, и между Ядомъ и шуринами дѣло дошло до драки, въ которой тѣ такъ избили стараго Зелепугу, что дѣйствительно пришлось звать свидѣтелей и бабъ-шептухъ. Съ плачемъ и проклятьями жена Яда бросилась къ золовкамъ, чтобы взбунтовать ихъ противъ мужей. Тѣ приняли ея сторону, такъ какъ несчастная земля была причиной, почему ихъ мужья не выходили изъ кабака. Началась настоящая семейная война со всѣми извѣстными послѣдствіями: бранью, проклятіями и постоянными драками. Нечего и говорить, что женамъ въ этомъ случаѣ доставалось больше. Досталось и мужьямъ. Одна изъ женъ въ припадкѣ злости ошпарила своему мужу ноги кипяткомъ и онъ два мѣсяца не могъ встать съ постели. Это было къ лучшему, потому что ей удалось спасти хоть часть денегъ за проданную евреямъ землю. Другой посчастливилось на половину: когда мужъ былъ трезвъ, то билъ жену, если же онъ былъ пьянъ, то жена властвовала надъ нимъ, и на потѣху жидамъ таскала его за волосы изъ кабака домой, приговаривая при этомъ назидательныя рѣчи, сопровождаемыя для большей убѣдительности ударами кулака въ спину и въ голову. У третьяго шурина дѣло было хуже всѣхъ; тамъ былъ чистый адъ: жена съ мужемъ такъ разодрались, что она бѣжала отъ него на службу, а дѣтей раздала сосѣдямъ. Мужъ же въ два года пропилъ все хозяйство, скотъ, землю и нанялся копать ямы у того самаго жида, которому продаль землю Ядя. Что происходило между братомъ и сестрой страшно вспомнить. Выйдетъ бывало братъ рано на работу, уже подпившій, въ грязной полотнянкѣ, съ лицемъ чернымъ, какъ земля, сгорбленный и приниженный, а сестра выглянетъ ивъ окна, выбѣжитъ на дворъ, да какъ начнетъ плакать и проклинать — Господи Боже! И брата ей жаль, хоть и дурно обошелся онъ съ нею, и батьковщины жаль,—сама не знаетъ на кого плакаться, на кого призывать Божье проклятіе.
— А волила бъ я, братчику мій, бачыты, щобъ тебе самого въ сю землю закопувалы, нижъ маешъ ты еи ту рыты, та копаты для нехристивъ! Ну копли, враже, копли, може тамъ докоплешься кисточокъ небижчыкивъ тата да дида. Прыдывысь имъ добре, бо певно, обидва на другій бикъ въ гроби поперевертались, чуючы якъ вы ихъ памъять, ихъ землю криваву шануете. А не забудь тамъ сказаты небижчыкамъ, въ якихъ ты теперъ гонорахъ у пана жыда пробуваешъ, якъ спышъ пидъ жыдивскою лавою, исы разомъ зъ жыдивськимы собакамы, и якъ жыдивськи бахури коло коршми на тоби, якъ на кони, издять для забавы! Скажы имъ се, скаяжы!
А потомъ заломитъ руки надъ головой, да какъ заплачетъ, будто по покойникѣ.
— Братику мій, соколыку сызый! Чы я тебе не любыла, чы я жъ коло тебе непрыладала, ще якъ ты маленькый бувъ, якъ мы, мовъ овесъ дрибны, безъ мамы осталыся? Чы жъ я мало ночей не спала, тебе доглядаючы, якъ ты занедужавъ? Чы думала жъ я, нещаслыва, що намы така лыха доля кыне, що буду на тебе кары Божои просыты? Не дай Боже легко сконаты тымъ, що тебе на таку дорогу навелы, що тебе оттакъ на дывовыще, на публику людську пустылы!
Проклятія братъ слушалъ молча, согнувшись, будто волъ, покорно принимающій удары, сыплющіеся на его спину. Но воспоминанія о дѣтскихъ годахъ терзали его душу, сжимали его сердце, жгли его хуже огня. Однажды, выпивши болѣе обыкновеннаго, онъ не выдержалъ и съ крикомъ „а не будетъ ты тыхо, видьмо?“ кинулъ въ сестру каминцемъ. Самъ онъ потомъ доказывалъ, что этотъ камень былъ не больше кулака, но видно онъ былъ побольше, такъ какъ сестра не только замолчала, но съ глухимъ стономъ упала на землю. На этотъ стонъ выбѣжалъ изъ дома Яць и поднялъ жену. Одинъ глазъ былъ выбитъ, а на лбу зіяла рана, отъ лѣвой брови до самыхъ волосъ. Евка больше не кричала, не стонала, а только постоянно теряла сознаніе. Полумертвой повезли ее въ Дрогобичъ. Оказалось, что не только лѣвый глазъ выбитъ, но и лобная кость проломлена. Промучившись нѣсколько дней, Евка умерла, а брата взяли подъ судъ. Тамъ онъ и умеръ, не дождавшись окончанія слѣдствія.
Съ тѣхъ поръ Яць Зелепуга началъ пить до самозабвенія. Опротивѣла ему изба, хозяйство, опротивѣли люди. На совѣтъ женщинъ жениться еще разъ онъ только махалъ рукой, какъ бы желая навсегда отогнать отъ себя эту мысль. Мало по малу дошло до того, что осьмушка стала единственнымъ на свѣтѣ предметомъ, имѣющимъ для него интересъ.
Два года минуло послѣ смерти жены Яця. Зелепуга сталъ неузнаваемъ. Хозяйство было заброшено, скотъ забралъ жидъ за водку, хлѣбъ давно былъ проданъ, плетни обломаны, и большая часть посуды перешла также въ кабакъ. Только на ночь Яць приходилъ домой, а цѣлый день просиживалъ въ кабакѣ. Хотя онъ пилъ мало, но для его ослабленнаго организма достаточно было двухъ-трехъ рюмокъ, чтобы свалить его съ ногъ. Ѣлъ онъ очень мало. И только ненависть къ богачамъ постоянно росла въ его душѣ; хоть, правду сказать, эти богачи съ каждымъ днемъ теряли землю, уступая ее евреямъ, которые толпами нахлынули въ Бориславль, прельщенные быстрымъ обогащеніемъ на нефтяныхъ копяхъ.
Иногда, въ минуту трезвости, Яць Зелепуга ясно видѣлъ, къ чему все это ведетъ. Набросивши гуню, въ барашковой шапкѣ на головѣ, съ засунутой за пазуху рукой, шелъ онъ медленнымъ шагомъ по бориславской улицѣ, бросая кругомъ неспокойные взгляды и сплевывая отъ времени до времени, какъ бы отъ мучившей его жажды.
— Боже мой, что тутъ дѣлается!—шепталъ онъ.—Праведная кара Божія на наше село! Ну глядите, глядите, сколько тутъ той погани налѣзло, какъ мурашекъ! У Пилила Буняка пять ямъ копаютъ, у Матія—четыре, у моего премудраго шурина уже полъ-грунта купили, передъ самыми его окнами цѣлую гору глины накидали! И тамъ, и тамъ, и тамъ! Всюду копаютъ, роютъ, черпаютъ ту проклятую кипячку, щобъ имъ ще горломъ лылася.
На землѣ, которую его жена уступила братьямъ и которую тѣ перепродали жидамъ, было уже десять нефтяныхъ ямъ: нѣкоторыя 5—6 саженей глубины, другія по 20 и 25. Еврей, купившій эту землю за безцѣнокъ, былъ уже богачемъ—пайщикомъ первой бориславской дистиллярни и обладателемъ еще двадцати новыхъ ямъ. Это вѣрно, что на землѣ покойной жены Яця ему наиболѣе посчастливилось. Въ другихъ мѣстахъ, также купленныхъ за безцѣнокъ, ямы были глубиной 15—20 саженъ, а ропы еще не показывалось. Двѣ ямы въ 25 саженъ надо было совсѣмъ забросить, такъ какъ наверхъ вышла масса воды. Земля Яця была золотымъ руномъ для Мендля Шехтера, а потому неудивительно, что Мендель давно острилъ зубы и на прилежащій грунтъ Яця. Не разъ уже зондировалъ онъ Яця, не продастъ ли тотъ своей земли, но Яць и слышать объ этомъ не хотѣлъ. Да и некогда было. Яць цѣлый день пилъ и опохмѣлялся, а пока было на что пить, не имѣлъ надобности продавать землю.
Но теперь дѣла измѣнились. Яць все пропилъ и бралъ у жида въ долгъ. По соображеніямъ Мендля какъ разъ было время начать гешефтъ, тѣмъ болѣе, что Яць рѣже сталъ появляться въ кабакѣ, больше ѣлъ и ходилъ по селу задумчивый и печальный.
— Добрый день вамъ, пане Яцентій!—сказалъ однажды Мендель, приближаясь къ Яцю, стоящему посреди двора въ раздумьи, съ палкой въ рукѣ.
— А, добрый день!—отвѣчалъ Яць, не глядя на еврея.
— Ну, что дѣлаете?—спрашивалъ жидъ.
— А что-жъ? Дышу.
— Ну всѣ мы, слава Богу, дышемъ; это еще не работа,— возразилъ, усмѣхаясь, жидъ.—Я спрашиваю, что вы думаете съ грунтомъ дѣлать?
— Съ грунтомъ? А чтоже мнѣ съ нимъ дѣлать? Пускай лежитъ. Грунтъ ѣсть не проситъ.
— Правда то правда, что грунтъ ѣсть не проситъ, но вамъ, пане Яцентій, ѣсть и пить нужно.
Яць вытаращилъ глаза на жида и нехотя сказалъ.
— Это уже мое дѣло! Къ вамъ просить не пойду.
— Ну, пане Яцентій,—кротко отвѣтилъ жидъ.—Развѣ я про то говорю. Я говорю, что зачѣмъ грунту лежать, чего вы съ нимъ дождетесь? Дѣла по горло, а хлѣба такъ и не будетъ. Я вамъ заплачу по людски, станетъ на вашъ старый вѣкъ.
— Гм... А сколько же вы дадите?
— А сколько у васъ всей земли?
— Безъ того, что подъ хатою и подворьемъ шесть морговъ.
— Ну, то я вамъ дамъ за все триста римскихъ*.
— А это почемъ же за моргъ?
— По пятидесяти. Развѣ это мало? Людская цѣпа, бигме, людская цѣна.
— А сколько бы вы, Мендлю, хотѣли за тѣ два морга, что купили у моихъ шуриновъ, здѣсь вотъ сейчасъ, о межу съ моею?
— Гм...—усмѣхнулся Мендель,—я того поля не продаю.
— А, конечно, потому что вы на немъ кладъ выкопали. Хоть и смердитъ, а все таки золото. Ну, а кто же мнѣ поручится, что и у меня его нѣтъ?
— Ну, Яцю, что вы за человѣкъ!—сказалъ Мендель.—Вы думаете, что я покупалъ бы вашъ грунтъ, если бы зналъ, что въ немъ ничего нѣтъ? Или вы думаете, что мнѣ ничего лучшаго не остается дѣлать, какъ сѣять овесъ на вашихъ пустыряхъ?
— Богъ заплатитъ. вамъ за щыристь, пане Мендель,— отвѣтилъ на это Яць. А коли Богъ и вправду и въ мою землю вложилъ, то какой же я былъ бы дурень, если бы его такъ даромъ изъ рукъ выпустилъ?
— Какъ это даромъ? А пятьдесятъ римскихъ развѣ не гроши?
— Нѣтъ, Мендлю, то собачіе гроши.
— Го, го, kück ihm un, якій мени панъ!—вскрикнулъ обиженный Мендель.—Идите и найдите ихъ на дорогѣ, коли это собачіе гроши!
— Ну, на дорогѣ не буду искать, сами ко мнѣ придутъ,— сказалъ Яць и направился къ своей хатѣ.
— Пане Яцентій! — звалъ его Мендель, — пане Яцентій, подождите!
— А что тамъ такое?—опросилъ Яць, останавливаясь.
— Знаете, что я вамъ скажу?—говорилъ Мендель, снова приближаясь къ нему.—Я вамъ дамъ по 80 римскихъ за моргъ.
— Э, пусте ваше балаканне,—отвѣтилъ Яць и махнулъ рукой.— Зачѣмъ я буду отдавать вамъ за 80, коли другіе и по 100 даютъ?
— По сто римскихъ за моргъ!—вскрикнулъ Мендель.— Бойтесь Бога, Яцю, кто вамъ дастъ по сто римскихъ?
— То уже мое дѣло, кто дастъ. Только вы себѣ не думайте, что старый Яць потерялъ разумъ, и не знаетъ, что дѣлать. Дурень то, я дурень, признаюсь, да кое что знаю и зъ кашею зъисты ся не дамъ!
— Ну, пане Яцентій, что вы обо мнѣ думаете, чтобъ я васъ хотѣлъ зъ кашею исты! Я только спрашиваю, кто вамъ дастъ по сту римскихъ за моргъ грунту?
Яць долго смотрѣлъ Мендлю въ глаза, потомъ отвернулся, плюнулъ и, не говоря ни слова, пошелъ домой.
— А dummer Goy!—бурчалъ Мендель послѣ его ухода.— Думаетъ, что меня на полову зло́вытъ! Сто римскихъ! Подождешь ты еще, пока я дамъ тебѣ сто римскихъ за моргъ.
Но долго ждать Яцю не пришлось. Нѣсколько дней спустя послѣ этого разговора одна изъ ямъ Мендля была залита водой, а другую засыпало землей вмѣстѣ съ тремя рабочими. Мендель понесъ большіе убытки, а къ тому же еще долженъ былъ заплатить коммиссіи, чтобы она признала, что смерть рабочихъ была слѣдствіемъ ихъ собственной неосторожности. Потери были значительныя; менѣе богатый потерпѣлъ бы полное разореніе. Единственною надеждою Мендля были нефтяные источники въ усадьбѣ Яця. Пріобрѣтеніе земли у Яця было еще желательнѣе Мендлю потому, что большой наплывъ купцовъ поднялъ цѣну на землю и 100 римскихъ за моргъ не было рѣдкостью. Не прошло и недѣли, какъ Мендель, захвативши бутылку крѣпкой водки, направился къ жилищу Яця Зелепуги. Хозяинъ былъ дома и починялъ деревянный ушатъ.
— Дай Боже добрый день!—сказалъ Мендель, приподнимая шляпу.
— Дай Господи!—отвѣтилъ Яць.
— Щасты Бигъ при роботи!—добавилъ Мендель.
— Дай Боже! Дякую за слово добре.
Мендель сѣлъ на скамью и осмотрѣлся.
Въ хатѣ было пусто и мрачно. Голыя стѣны, пустыя полки, печь давно не топлена,а въ ней валяются черепки. Страшная пустота.
— Не хорошо у васъ тутъ, пане Яцентій,—сказалъ жидъ, съ минуту помолчавши,—погано такъ на старости жить.
— Можетъ, Богъ дастъ, что когда нибудь и у насъ лучше будетъ,—отвѣтилъ Яць, сердито стуча обухомъ по обручамъ ушата.
— Дай Боже! Дай Боже! А что это вы дѣлаете?
— А вотъ цебречишко испортился, такъ поправляю.
— Зачѣмъ вамъ тотъ цеберъ? Вы же свиней не держите?
— А можетъ и буду держать. Все лучше, коли цеберъ будетъ исправный. Денегъ стоитъ.
Жидъ снова замолчалъ, пряча бутылку подъ полой халата и не имѣя какъ то храбрости прямо приступить къ дѣлу.
— Что это значитъ, пане Яцентій,—сказалъ онъ, минуту спустя,—Мошко изъ корчмы жаловался мнѣ, что вы уже съ недѣлю не бываете у него.
— А зачѣмъ мнѣ бывать? Пить не хочется, а денегъ, что я ему долженъ, еще нѣтъ.
— А борони Боже — вскрикнулъ съ притворнымъ удивленіемъ Мендель.—Развѣ онъ у васъ домогается денегъ! Не деньги хочетъ онъ видѣть, а васъ.
— Богъ заплатитъ ему за его доброту,—сказалъ Яць,—а я далъ зарокъ, что безъ денегъ больше къ нему не пойду. Хоть онъ и не вспоминаетъ, да, сами знаете, довгъ довгій, а виддай короткій.
— Фи, пане Яцентій, что то за долгъ? Пятнадцать римскихъ! Стоитъ о томъ говорить! Ну, а знаете что? Что мы будемъ такъ на сухо болтать? На то Богъ человѣку горло далъ, чтобъ его почаще промачивать. Поищите тамъ какой стклянки или рюмки! И съ послѣдними словами Мендель вынулъ бутылку и поставилъ на столѣ. Глаза Яця засвѣтились огонькомъ при видѣ водки, и даже топоръ выпалъ у него изъ рукъ. Онъ уже приготовился встать и искать стаканчикъ, но какая то сила остановила его. Тяжело ему было побороть страсть къ драгоцѣнному напитку; голова у него кружилась и руки начали дрожать. Но все таки онъ не всталъ съ мѣста.
— Богъ заплатитъ вамъ, пане Мендлго, за вашу добрую волю,—благодарилъ Яць надтреснутымъ голосомъ,—но я не знаю, зачѣмъ мы будемъ могорычъ пить. А такъ, на кота въ мишку не годится пить.
— У, у, что вы за человѣкъ, что и не приступай къ вамъ!—вскричалъ Мендель.—Ну, а коли безъ всякаго интереса, а такъ только къ доброму сосѣду съ почеснымъ прихожу?
— Ну это вы кому другому разсказывайте, а не мнѣ, —сказалъ Яць.—Жидъ безъ интересу ни шагу не сдѣлаетъ.
— Что за интересъ,—сказалъ Мендель.—У меня одинъ интересъ, знаете какой? Сторгуемся за землю?
— Трудно будетъ! коротко отрѣзалъ Яць.
— А сохрани Боже! Зачѣмъ же трудно? При Божьей помощи все можетъ быть легко.
— Почемъ даете за моргъ?
— Ну? Что вы спрашиваете? Вы знаете мое слово: 80 папирковъ*.
— Э, коли такъ, то нечего и разговаривать. И за сто не отдамъ!
— Охъ, какъ вы скоро въ гору ростете? Кто бы подумалъ, что у васъ въ скрынѣ Богъ знаетъ какіе маетки-статки, что такъ дорожитесь.
— Въ скрынѣ, не въ скрынѣ,—отвѣтилъ Яць,—а къ той самой землѣ навѣрно статки-маетки. Что жъ мнѣ ихъ вамъ за даромъ отдать?
— А конечно,—съ насмѣшкой процѣдилъ жидъ,—на что отдавать такія богатства? Лучше пойти и самому забрать.
— А вы думали какъ? Копаете же вы, отчего бы и мнѣ не копать?
Жида взорвало при этихъ словахъ и онъ съ удивленіемъ вытаращилъ глаза на изнуреннаго, несчастнаго мужика.
— Что? Что вы говорите?
Яць спокойно посмотрѣлъ на жида и добавилъ, усмѣхаясь:
— Васъ вѣрно что то укололо, пане Мендель, что вы такъ вскочили? А то, что я говорю—глупая болтовня, правда?
— Конечно, что глупая болтовня, — убѣжденно сказалъ Мендель.—Вы думаете, что это такъ легко: пить и брать изъ земли даръ Божій? Ага! Не знаете вы, чего это стоитъ! За копанье плати, а еще найдется ли въ землѣ что нибудь или нѣтъ? Вотъ у меня уже три закопа вода залила, а знаете, что каждый закопъ стоилъ мнѣ не меньше ста римскихъ? Ну, а откуда вы столько денегъ добудете? А хоть и добудете, не по вашей головѣ такое дѣло, бигме, не по вашей головѣ!
— А то уже какъ Богъ дастъ, увидимъ,—сказалъ Яць.— И вы не всѣ же разумы съѣли, можетъ тамъ что нибудь и для насъ осталось. Попробуемъ.
Мендель все съ большимъ безпокойствомъ посматривалъ на Яця.
— Что, неужели вы это вправду, пане Яцентій, не шутите?
— Развѣ я знаю?—отвѣтилъ печально мужикъ.— Можетъ и шучу.
— Ну, а какъ же будетъ съ грунтомъ? Продаете?
— Коли сойдемся въ цѣнѣ, то и продамъ.
— А какая ваша пѣна?
— А, видите ли, ....ъ. У меня шесть морговъ. Два здѣсь, возлѣ хаты, а четыре тамъ дальше, на Волянци. Эти четыре я готовъ вамъ продать по 150 римскихъ за моргъ.
— Тѣ четыре! А на какого бѣса мнѣ тѣ четыре? Вѣдь на Волянци никто не копаетъ?
— А кто знаетъ, можетъ и тамъ кладъ лежитъ?
— Э, я на „кто знаетъ" не покупаю. Ну, а тѣ два почемъ?
— Тѣхъ двухъ не продаю. Тѣ два для себя удержу.
— Какъ? Для себя? А вамъ они на что?
— Это уже мое дѣло.
— Да ну, пане Яцентій, не шутите. Что хотите за эти два морга?
— Нѣтъ, сторгуемся за тѣ четыре.
— Зачѣмъ мнѣ тѣ четыре? Пустопашь, бодячье, что я съ ними сдѣлаю? За тѣ два дамъ по сто римскихъ.
— За тѣ четыре возьму, только съ васъ, по 140,—сказалъ Яць съ истинно мужицкимъ упорствомъ,—а о тѣхъ двухъ и говорить шкода.
— Ну, жди же, дурню, чорта лысаго, что тебѣ за тѣ дастъ по 140!—крикнулъ, остервенись, Мендель, схватилъ свою водку и выбѣжалъ на дворъ. Мужикъ спокойно продолжалъ набивать обручи. Но черезъ минуту Мендель, успокоившись, снова вернулся.
— Ну, пане Яцентій, съ вами говорить, то нужно сперва гороху наѣсться. Говорите правду: почемъ хотите за тѣ два морга?
— За тѣ четыре по 140, а тѣхъ двухъ теперь еще и не продамъ.
— А когда же продадите?
— Этого я еще и самъ не знаю. Когда дойдутъ до свой цѣны.
— А когда же они дойдутъ до своей цѣны?
— Развѣ я знаю? Увидимъ.
— Это послѣднее ваше слово?
— Послѣднее.
Мендель удалился, проклиная въ душѣ несговорчиваго мужика. А Зелепуга не на шутку задумалъ помѣриться съ жидами. Въ его старой, непривычной къ мышленію головѣ зародился неясный планъ. Какъ сдѣлать это — онъ не зналъ, но рѣшеніе было принято. „Ну чтожь, буду копать одинъ, и конецъ"— думалъ онъ сначала, но скоро убѣдился, что одному копать невозможно. При одной шахтѣ необходимо не менѣе трехъ человѣкъ. Довольно нанять двухъ. Да гдѣ взять денегъ? У него нѣтъ ни денегъ, ни хлѣба, ни скота, нечего было и продать, кромѣ земли. А внутренній голосъ постоянно шепталъ ему: „Берись за работу! Богъ вложилъ тебѣ кладъ въ землю, грѣхъ имъ пренебречь! “ А зачѣмъ ему, старому, дряхлому, такое богатство—онъ не думалъ. По временамъ въ его воображеніи рисовались заманчивыя картины, въ родѣ: „церковь выстрою, хорошую, каменную, каплицу поставлю надъ жинкою, дамъ на Боже, пускай Богъ будетъ милостивъ къ моей душѣ“—дальше этихъ набожныхъ мечтаній мысль его не шла.
Визитъ Менделя показалъ ему, что дѣло съ этимъ богатствомъ вѣрное и натолкнулъ его мысли на практическій путь. Нѣсколько часовъ просидѣлъ онъ дома за починкой ведра, все размышляя, съ чего начать? Потомъ всталъ и пошелъ въ село. Пока что будетъ, а онъ рѣшилъ примириться съ оставшимися двумя шуринами. Когда онъ вошелъ въ хату одного изъ нихъ, гдѣ онъ не былъ уже пять лѣтъ, его поразила мысль:
— Что, я одурѣлъ или совсѣмъ ослѣпъ, что могъ считать его богачемъ?
Правда, хата была просторна и хорошо построена, но совсѣмъ запущена. Подъ навѣсомъ нѣтъ хозяйственныхъ принадлежностей, въ обширныхъ сѣняхъ нѣтъ закромовъ съ хлѣбомъ, комора отворена настежь, въ ней нѣтъ ни сундуковъ, наполненныхъ всякимъ добромъ, ни кожуховъ на жерди, ни подушекъ на постели, ничего нѣтъ. Вдобавокъ Зелепуга засталъ въ избѣ цѣлый содомъ: жена шурина плакала, дѣти пищали.
— Что у васъ такое, кумо?—спросилъ онъ послѣ перваго привѣтствія, садясь на грязной скамьѣ. Невѣстка взглянула на него заплаканными глазами и, отворачиваясь, отвѣтила:
— А вамъ что до этого? Какое васъ лихо принесло?
— Богъ съ вами, кумо — швагрова, — сказалъ Яць. — Не лихо меня сюда принесло. Вѣдь мы же свои. Грѣхъ намъ цуратысъ однимъ другихъ. Я пришелъ васъ провѣдать, посовѣтоваться...
— Ага, можетъ опять хотите моему какой кусокъ земли уступить. Пускай васъ Господь тяжко покараетъ за это благодѣяніе, что вы ему сдѣлали.
И бѣдная женщина заломила руки и залилась горькими слезами. Дѣти тоже заплакали.
— Бойтесь Бога, кумо! развѣ я виноватъ въ томъ, что вашъ мужъ обманулъ мою покойницу, выманилъ у нея батьковщину, а потомъ продалъ жидамъ?
— Пускай васъ всѣхъ, всѣхъ Богъ тяжко покараетъ за мои слезы, за мою нужду, за мое горькое житье! Въ чемъ виновата передъ вами я, въ чемъ виноваты бѣдные дѣти, что должны погибать изъ-за того проклятаго пьяницы?
— Что же такое случилось? Что онъ сдѣлалъ?—допрашивалъ Яць, мало обиженный ея проклятіями, въ которыхъ видѣлъ только слѣдствіе раздраженія.
— Продалъ, чортъ, продалъ уже и остатокъ грунту жидамъ. Продалъ и не знаю за сколько. Уже другую недѣлю пьянствуетъ гдѣ то въ Дрогобычи, чтобъ ему тамъ и голову сложить! Ой, доля жъ моя несчастная! Сама, бѣдная, не знаю, что съ собою дѣлать. Уже жидъ съ войтомъ и присяжнымъ забрали грунтъ, начали копать ямы, а его нѣтъ, какъ нѣтъ.
— Вотъ такъ!—подумалъ Яць,—вотъ такъ на богача наскочилъ! Тутъ, видно, еще большая бѣда, чѣмъ у меня.
И, обращаясь къ плачущей женщинѣ, онъ сталъ утѣшать ее, какъ могъ.
— Не плачьте, кумо, успокойтесь, какъ нибудь обойдется. Може Богъ ще къ добру оберне.
— Скорше васъ усихъ до горы ногами оберне, що дай Боже, аминь!—снова вскрикнула несчастная мать и, обращаясь къ плачущимъ дѣтямъ, стала причитывать по нимъ, какъ по умершимъ:
— Сиротки мои, дѣточки малые! Далъ вамъ Богъ отца поганина, что о васъ не думаетъ, запродалъ чорту душу, а жидамъ землицу. Гдѣ же вы теперь дѣнетесь? Кто пасъ выкормитъ и въ люди выведетъ?
— Ну, тутъ я ничего не подѣлаю: ни совѣты мои, ни утѣшенья тутъ не у мѣста, подумалъ Яць и незамѣтно вышелъ.
— Что имъ изъ моихъ утѣшеній,—думалъ онъ дорогой,-— тутъ нужна помощь, а не утѣшенія. Вотъ если бы мнѣ докопаться кипячки на моемъ полѣ, ну тогда бы всѣхъ ихъ можно было бы пріютить. Правда, шуринъ съ нами худо обошелся, но его жена и дѣти нисколько не виноваты. Нѣтъ, надо думать, надо искать помощи, можетъ быть Господь милосердый смилуется надъ нами.
Въ грязной, запущенной хатѣ невѣстки Яць неожиданно для себя нашелъ цѣль своихъ надеждъ и стремленій. Природное богатство, скрытое въ его землѣ, увеличилось въ нѣсколько разъ съ тѣхъ поръ, какъ Яць созналъ, что оно не столько необходимо для постройки церквей и покупки церковныхъ принадлежностей, какъ для спасенія бѣдной погибающей семьи.
Все это крѣпкимъ узломъ связалось въ его доброй душѣ. Съ тѣхъ поръ какъ выяснилась для него цѣль жизни, онъ окрѣпъ духомъ, и какъ будто помолодѣвши на десять лѣтъ, направился къ жилищу другого шурина, котораго въ селѣ прозвали Недовареннымъ послѣ исторіи съ женой. Жилъ онъ на другомъ концѣ
Бориславля у подошвы Карпатъ, гдѣ нефтяной почвы не было, и считался зажиточнымъ хозяиномъ. Но съ тѣхъ поръ какъ жена его ошпарила, онъ ходилъ на костыляхъ и чувствовалъ иногда ужасную боль отъ незажившихъ еще ранъ. Въ дурную погоду боль чувствовалась еще сильнѣе и въ такія минуты онъ былъ золъ, точно раненый волкъ. Яць попалъ какъ разъ въ такую пору.
— А шуринокъ милый, ссс...—зашипѣлъ Недоварепный, замѣтивъ издалека Зелепугу. — А какое лихо занесло тебя ко мнѣ? А? Нищій!
Яць только головой покачалъ. Такое привѣтствіе сразу напомнило ему дѣйствительность.
— Э, шуринъ,—сказалъ онъ, приближаясь и приподнимая шапку.—Много ли я у тебя пороговъ обилъ за нищенскимъ хлѣбомъ, что такъ меня встрѣчаешь? Фе, стыдись, что такъ загордился своимъ богатствомъ!
— Смотрите, какой учитель, ссс...! А я голову свою даю на закладъ, что ты пришелъ таки за какою то подачкою. Чѣмъ больше у нищаго нужда, тѣмъ больше фумы на языкѣ. А ну, скажи, зачѣмъ ты приплелся?
— Привели меня сюда два дѣла, — сказалъ спокойно Яць, садясь на бревнѣ.—Одно дѣло не мое, а шурина Чапли.
— Того жидовскаго захребетника и пьяницы? Знаю, знаю, пропилъ послѣднюю каплю разума, продалъ жидамъ остатокъ грунту, а теперь пропиваетъ деньги въ Дрогобичѣ. Такъ ему, дураку, и надо!
— Чтожь, я про него ничего и не говорю! пусть его Богъ судитъ! А вотъ его жена, ваша и моей покойницы сестра, и дѣти малые въ чемъ они виноваты? Всѣ они остались безъ хлѣба, безъ батьковщины. Что съ ними будетъ?
— А мнѣ что за дѣло? Развѣ я имъ отецъ? Или я обязанъ о нихъ заботиться, ссс...?
— Да бойтесь Бога, пане швагре! — вскрикнулъ Яць.—Не дадимъ же мы нашимъ кровнымъ напрасно погибнуть? Вотъ только что я былъ тамъ: Содомъ, говорю вамъ. Старая плачетъ, дѣти плачутъ.
— А пускай себѣ плачутъ,—злобно замѣтилъ тотъ,—поплачетъ и перестанетъ. Моя хата съ краю, я ничего не знаю, не мое просо,—не мои воробьи ссс...!
Говоря это, онъ постоянно шипѣлъ, такъ что можно было подумать, что чужая бѣда доставляла ему особенное удовольствіе.
— Ну, это одно дѣло, а какое другое? — спросилъ Недоваренный.
— Богъ съ вами, — отвѣтилъ Яць, — вижу, что со своими дѣлами не на ту улицу попалъ: лучше оставимъ нашъ разговоръ.
— Видишь, уже разсердился, ссс...! Чисто нищенская натура. Откажи ему — сейчасъ постный видъ сдѣлаетъ и мямлитъ: Богъ заплатитъ и за это! А въ душѣ думаетъ: чтобъ тебя черти взяли! Ну, ну, говори, какое другое дѣло. Мнѣ хочется знать, ссс....
— Чтобы вы не думали, что я разсердился, то и скажу вамъ: купите мой грунтъ на Волянци, четыре морга въ одномъ кускѣ. Дешево вамъ продамъ.
— А мнѣ зачѣмъ твой грунтъ на Волянци?
— Какъ зачѣмъ? Грунтъ къ грунту всегда пригодится, хоть бы и впустѣ лежалъ, то все или копей будете пасти, или наймете кому подъ овесъ, все таки доходъ будетъ.
— А чтожь ты самъ этой штуки не продѣлаешь?
— Продѣлать то я продѣлалъ бы, да только мнѣ теперь деньги нужны.
— Зачѣмъ тебѣ деньги? Вѣрно не на что пьянствовать, такъ и грунтъ продаешь? Эхъ вы, жеброта не полатана! Тутъ мнѣ твердитъ, чтобы тому помочь, а самъ не лучше его, ссс...! Ну скажи, зачѣмъ тебѣ деньги?
— Э, что я вамъ буду говорить! Это уже мое дѣло.
— Не хочешь со мною говорить, такъ и я не буду.
И Недоваренный зашипѣлъ и отвернулся.
— А если не хотите грунту,—сказалъ не терявшій надежды Яць,—то знаете что: вступите со мною въ компанію.
— Въ какую компанію?
— Ну, вижу, что вамъ нужно все сказать. Такъ слушайте! Въ томъ грунтѣ, что вамъ уступила моя покойница, жиды выкопали родники кипячки, вотъ уже годъ черпаютъ и наживаютъ деньгу. Точатъ зубы и на мой кусокъ, что граничитъ съ тѣмъ: навѣрно и въ немъ лежитъ такой же кладъ.
— Ну, и чтоже изъ этого? И продай имъ.
— Вы такъ думаете? — медленно спросилъ Зелепуга. А я думаю, что это былъ бы грѣхъ. Далъ Богъ кладъ въ наши руки, только немного потрудись—и бери, и черпай, нѣтъ, мы даромъ отдадимъ его жидамъ, а сами пойдемъ къ нимъ на службу!
— Ха, ха, ха! кладъ! Ссс...! — засмѣялся и зашипѣлъ отъ боли Недоваренный,—что это за кладъ: проклятая ропа вонючая! Христіанину грѣхъ съ нею и возиться. Это жидовское ремесло.
— А не грѣхъ христіанину копать и черпать ее въ наймахъ у жида?
На это Недоваренный не нашелся отвѣтить, но зацѣпка нашлась съ другой стороны.
— Ну, ну, не очень то горячись! Откуда ты знаешь, что именно въ твоей землѣ кипячка? Я думаю, что если жидъ изрылъ сосѣднюю землю, то и изъ твоей давно уже все стекло въ его ямы.
— А я думаю, что жидъ чуетъ, гдѣ есть барышъ, и не даромъ обиваетъ у меня пороги, чтобы я продалъ ему эту землю.
— Э, и жидъ также на угадъ спекулируетъ, какъ и ты. Ну, а чего ты собственно отъ меня хочешь? Въ какую компанію меня приглашаешь?
— Хочу самъ копать на своей землѣ и увѣренъ, что докопаюсь кипячки. На копанье надо будетъ около ста римскихъ, а у меня теперь въ карманѣ пусто. Вотъ я и думалъ...
— И не думай! Ссс... — перебилъ его тотъ. — Глупая твоя спекуляція, а у меня ни денегъ нѣтъ, ни охоты путаться въ такія исторіи. Еще жиды на меня взъѣдятся, такъ что имъ значитъ поджечь меня или убить? Кто имъ что сдѣлаетъ?
Яць Зелепуга печально поникъ головой: въ послѣднихъ словахъ шурина была правда. Въ нѣсколько лѣтъ жиды стали силой въ Бориславлѣ. Порядка въ громадѣ не было. Подкупы, пьянство деморализовали громадское начальство и оно сдѣлалось послушнымъ орудіемъ въ рукахъ жидовъ. Полиціи не было никакой. Жиды дѣлали, что хотѣли, а дрогобицкое окружное начальство махнуло на все рукой, видя свое безсиліе установить какой нибудь порядокъ. Потому то каждый и боялся не только за свое имущество, но и за жизнь. Постоянныя „несчастья въ ямахъ“ проходили безнаказанно для хозяевъ, а подъ эту рубрику „несчастья въ ямахъ“ подводилась масса такихъ злодѣйствъ, о которыхъ испуганные жители боялись даже и вспоминать.
— Такъ вы думаете, что изъ этого ничего не будетъ?— спросилъ Яць шурина.
— Разумѣется не будетъ,—сказалъ тотъ гораздо мягче, чѣмъ сначала. — Ну, скажи, твоей ли или нашей хлопской головы это дѣло? А хуже всего, что нужно будетъ начать войну съ жидами. Нѣтъ, нѣтъ, ничего изъ этого не будетъ.
Зелепуга еще минуту посидѣлъ на бревнѣ, обдумывая, потомъ всталъ съ прояснившимся лицомъ и, стуча палкой о землю, сказалъ рѣшительнымъ тономъ:
— А я вамъ скажу, что таки будетъ! хоть бы мнѣ пришлось голову положить, а я своего добьюсь. Вступаете въ компанію?
— Иди, иди, старый дурень! И до сихъ поръ я думалъ, что ты дуракъ, а теперь вижу, что ты пропилъ и ту крошку ума, что мать дала,—насмѣхался шуринъ.
— Такъ не идете въ компанію?
-— И не снилось.
— Воля ваша. И безъ васъ обойдемся. А я вамъ скажу, что пожалѣете.
И не простившись, Яць быстро направился къ своей хатѣ. А шуринъ долго сидѣлъ на приспѣ и думалъ.
— Гм... дурень этотъ Яць, ей Богу дурень! Самъ хочетъ копать да еще и меня въ компанію тянетъ. Знаю я, что значатъ эти компаніи. Займи ему денегъ—часть пропьетъ; другую закопаетъ, вотъ тебѣ и компанія. Нѣтъ, на такую полову ты меня, братецъ, не изловишь. А тѣмъ нищимъ въ самомъ дѣлѣ помочь надо,—думалъ онъ дальше.—Вѣрно Яць сказалъ: чѣмъ виновата жена, чѣмъ виноваты дѣти, что у нихъ такой отецъ? Надо будетъ навѣстить ихъ сегодня. Надо будетъ со старою посовѣтоваться, баба такія вещи лучше знаетъ, чѣмъ мужикъ. Вотъ несчастье! Распился, бестія, и память у него отшибло, забылъ, что у него семья, ссс...
И онъ зашипѣлъ, припомнивъ, что и съ нимъ могло бы случиться тоже самое, если бы жена не ошпарила его кипяткомъ.
— А все же изъ этой компаніи,—возвратился онъ снова къ прежней мысли,—ничего не будетъ. Что же можетъ быть? Знаю я этого Зелепугу. Не сегодня—завтра продастъ землю жидамъ. Только даромъ связался бы съ нимъ. Зачѣмъ мнѣ эти хлопоты?
И онъ пошелъ въ хату, чтобы условиться съ женой, какъ помочь невѣсткѣ и дѣтямъ. Но мысль о богатствѣ, которое Богъ скрылъ въ землѣ Зелепуги, не давала ему покоя. Послѣ обѣда онъ еще разъ взвѣсилъ все съ точностью.
— А что,—додумался онъ подъ конецъ,—если Яць не такой дурень, какъ кажется? Война съ жидами? Ну и чтоже? Война, такъ война. Надо трудиться и надѣяться на Бога. Можетъ, человѣкъ какъ нибудь и выдержалъ бы, а то вовка бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить. А чтобы Яць денегъ не пропилъ, можно бы и самому позаботиться, самому расплачиваться, не давать ему денегъ на руки. Только есть ли тамъ что нибудь въ этой землѣ? А если есть, а должно быть есть, то станетъ ли нашихъ денегъ на то, чтобы докопаться до клада? Гм... а вѣдь дѣло вовсе не такое глупое, какъ мнѣ показалось съ перваго раза. Надо будетъ когда нибудь пойти осмотрѣть тотъ грунтъ, можетъ и удастся что нибудь сдѣлать? Если бъ только Яць не одурѣлъ да не продалъ его жидамъ. Ну, да взялся мужикъ, такъ скоро отъ своего не отстанетъ, видно по немъ. А коли такъ, то безъ меня не обойдется, какъ же иначе онъ устроится?
И успокоенный этимъ Недоваренный велѣлъ запречь лошадь, и набравши хлѣба, муки, крупъ, масла, бѣлья, сѣлъ съ женой на возъ и поѣхалъ къ невѣсткѣ.
Миронъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
____________________
*) Рейнскій, гульденъ.
*) Папирокъ — гульденъ.
[Кіевская старина, 1890, т. 30, кн. 5, с.307— 326]
(Окончаніе).
Яць, былъ уже дома. Двѣ думы мучили, его: о безпомощномъ положеніи родственницы и о неудачѣ съ шуриномъ. Намѣреніе, начать работу самому не докидало его ни на минуту. Несчастный бился какъ рыба объ ледъ, не находя возможности поставить на своемъ и обойтись безъ помощи богача.
— Самъ буду, копать—это такъ, но на что жить все это время? Развѣ принять въ компанію тѣхъ бѣдняковъ, что чуть не каждый день ходятъ по селу и ищутъ работы и хлѣба? Въ компанію они бы пристали-—это такъ, но откуда же и возьму для нихъ хлѣба?
Когда бѣдый Яць былъ обуреваемъ своими тяжелыми мыслями, слегка отворилась дверь и показалась сухая, сгорбленная фигура извѣстнаго всему Бориславлю Юдки Лыбака *).
Это былъ еврей еще не старый, лѣтъ подъ; 40, но сгорбленный, сморщенный, какъ старикъ. Его высохшее, усѣянное веснушками лицо, покрытое рѣдкой, огненно - красной растительностью, коротко- остриженная голова съ растрепанными пейсами, выпуклые глаза съ красными, больными вѣками, грубой, непріятный голосъ—все это производило отталкивающее впечатлѣніе. Но сердце у Юдки было мягкое, доброе; всѣмъ онъ готовъ былъ помочь въ бѣдѣ, а съ бѣднякомъ подѣлиться послѣднимъ кускомъ. Юдка уже нѣсколько лѣтъ занимался въ Бориславлѣ своимъ промысломъ, жилъ у мужика и въ свободное время охотно помогалъ хозяину. Всѣ смѣялись надъ его безобразной фигурой, но тѣмъ не менѣе любили его за доброту, и никто не отказывалъ ему въ маленькихъ услугахъ; тотъ отвезетъ въ городъ собранную имъ кипячку, другой подаритъ горшокъ варенаго картофеля, два-три яйца, немного луку—все нужное для его пропитанія. За то каждый могъ на него надѣяться. Въ горячую пору сѣнокоса или жатвы, когда такъ трудно достать работника, Юдка по первому зову бросалъ конскій хвостъ и шелъ сгребать сѣно или вязать снопы. За свою работу онъ не бралъ опредѣленной платы; довольствовался тѣмъ, что дадутъ, а чаще всего простою благодарностью.
— Добрый человѣкъ этотъ Юдка,—говорили про него бориславскіе жители.
— Оттого то онъ и такой капцанъ (бѣднякъ), — подтверждали другіе.—Никогда того не бывало, чтобы добрый человѣкъ не умеръ капцаномъ.
Однако же Юдкѣ не суждено было умереть бѣднымъ.
— Добре полудне вамъ, пане Зелепуга!—сказалъ онъ, входя и низко кланяясь.
— Добраго здоровья!—отвѣтилъ Яць.—Это ты, Юдка! Садись — гостемъ будешь!
— Най усе добре сидае!—сказалъ Юдка, все еще стоя у порога и комкая въ рукахъ порванную шапку.
— А что у тебя новаго?—спрашивалъ Яць.
— А что жь? Все, благодаря Богу, по старому.
— Хочешь мнѣ что сказать, что такъ шапку мнешь?—допытывался Яць, добродушно усмѣхаясь.
— Да оно того... какъ его,—заикнулся Юдка, какъ будто не рѣшаясь продолжать. Наконецъ, набравшись храбрости, онъ приблизился шага на два къ скамьѣ, на которой сидѣлъ Зелепуга.
— Знаете что, пане Зелепуга? Говорилъ мнѣ Мендель, что вы хотите продать вашъ грунтъ на Волянци.
— Грунтъ на Волянци? Да, продалъ бы.
— Ну, такъ продайте мнѣ.
— Тебѣ? А тебѣ на что?
— Такъ себѣ. Нужно... У меня есть немного денегъ, такъ думаю: не заработаю ли чего нибудь на вашемъ грунтѣ.
— Ну, чтожь, Богъ тебѣ помоги, Юдко!—искренно сказалъ Яць.—Если у тебя есть деньги, то конечно лучше на грунтѣ работать, чѣмъ конскимъ хвостомъ по лужамъ махать.
— А какъ цѣна?
— А развѣ тебѣ не сказалъ Мендель? По сотнѣ за моргъ.
— Это для меня много!—сказалъ Юдка.—Я вамъ дамъ по 80. Хорошо?
— Пускай будетъ и по 80, другому жиду я бы и по сто не отдалъ, а тебѣ отдамъ но 80, потому что знаю, что ты хлопской работы не чураешься.
На губахъ Юдки заиграла улыбка, а затѣмъ онъ вынулъ изъ за пазухи кварту водки.
— Ну, коли такъ, то выпьемъ могарычъ!—сказалъ Юдка.— Пускай вамъ Богъ на все доброе помогаетъ! И сейчасъ пойдемъ къ писарю—контрактъ сдѣлаемъ.
— А когда деньги выплатишь?
— Сейчасъ, какъ только контрактъ будетъ при свидѣтетеляхъ подписанъ.
Яць Зелепуга слушалъ и ушамъ не вѣрилъ: Юдка Лыбакъ землю покупаетъ! Платитъ наличными! Ну, вѣрно конецъ свѣта скоро!
Зелепуга недовѣрчиво посматривалъ на веселое лицо Юдки,— не хочетъ ли онъ его надуть? Но нѣтъ. Юдко серьезно брался за дѣло и не любилъ шутить.
Выпили по нѣсколько стаканчиковъ могарыча и пошли къ писарю. Писарь былъ дома и тотчасъ написалъ контрактъ. Юдка заплатилъ гульденъ за труды писарю и, подписавши бумагу, отправились къ Зелепугѣ, гдѣ тотъ въ присутствіи свидѣтелей сдалъ свою землю въ полное владѣніе Юдкѣ, а послѣдній уплатилъ ему сполна 320 римскихъ новыми бумажками.
Получивъ деньги, Яць, несмотря на позднюю пору, бросился прямо къ невѣсткѣ. Каково же было его удивленіе, когда передъ хатой онъ увидѣлъ подводу Недовареннаго, а въ хатѣ самого Недовареннаго съ женой.
— А, швагерокъ здѣсь!—крикнулъ, замѣтивъ его, шуринъ гораздо ласковѣе, чѣмъ прежде.—А ну, ну, иди сюда, ближе!
— Не надѣялся я васъ тутъ застать,—сказалъ Яць, останавливаясь въ дверяхъ.
— Ага, ты думалъ, что я такой турокъ, что не имѣю въ себѣ души христіанской! Эхъ вы нищіе, нищіе! Все только себя однихъ считаютъ честными и добрыми, и все бы съ радостью отдали, да только сами ничего не имѣютъ.
Зелепуга отвелъ въ сторону невѣстку и вручилъ ей „покуда“ пять римскихъ, добавивъ, чтобы она обращалась прямо къ немѵ, если будетъ въ чемъ нуждаться. Бѣдная женщина удивленно посмотрѣла на него и даже забыла поблагодарить. А Зелепуга надѣлъ шапку и пошелъ домой.
— Постой, Яцю, постой! — крикнулъ вслѣдъ ему Недоваренный.
— А что вамъ нужпо?—спросилъ Зелепуга, неохотно возвращаясь.
— А что, ты еще не бросилъ своего глупаго намѣренія копать ямы на своемъ грунтѣ.
— Нѣтъ, не бросилъ!
— А когда начинаешь?
— Завтра.
— Что? Завтра? Ну, а кого же ты въ компанію приманилъ?
— Никого не приманилъ, и никого мнѣ не нужно приманивать. Самъ для себя буду стараться,—это лучше всего. Знаете, какъ говорятъ: „самъ себя пасу, самъ себя и выгоняю". Спокойной ночи!
И Зелепуга поспѣшно удалился, оставивъ Недовареннаго въ большомъ недоумѣніи. Какъ же это? Правда ли? Вздумалъ ли этотъ безумецъ самъ начать работу и на чьи же деньги? Долго размышлялъ Недоваренный надъ этими вопросами и рѣшилъ завтра же лично побывать у Яця и навести его на умъ.
Но что за зрѣлище увидѣлъ на другой день Недоваренный на дворѣ у Яця!
Толпа жидовъ, жидовокъ, мужиковъ, работниковъ и всякихъ бродягъ... Крикъ, гамъ, насмѣшки... Что за чудо? Э, да это Яць началъ копать яму. Первый крестьянинъ взялся за это дѣло, которое до сихъ поръ было привилегіей жидовъ. Неудивительно поэтому, что едва Яць привелъ рабочихъ и назначилъ мѣста для четырехъ ямъ, какъ нахлынула толпа любопытныхъ. Первымъ примчался Мендель и, увидѣвъ къ чему идетъ дѣло, даже позеленѣлъ отъ злости.
— Что это? Бы здѣсь хотите копать?—спросилъ онъ Яця полушутливымъ, полуугрожающимъ тономъ.
— А конечно, хочу,—сказалъ спокойно Яць.
— А кто вамъ позволилъ?
— Самъ себѣ на своемъ грунтѣ позволяю.
— А я вамъ запрещаю, я!—крикнулъ Мендель, не будучи въ состояніи больше сдерживаться и почти не сознавая, что говоритъ.
— А ну, попробуй!—отвѣтилъ Зелепуга.
Мендель бросился на него и хотѣлъ вырвать заступъ, но Яць такъ сильно толкнулъ его въ грудь, что Мендель упалъ навзничь. Громкій смѣхъ сопровождалъ начало этой исторіи, но Мендель, не вставая, начать кричать не своимъ голосомъ, какъ будто его хотѣли рѣзать. Масса жидовъ сбѣжалась на этотъ крикъ и вѣроятно Яцю пришлось бы плохо, если бы крестьяне не заступились за него. Но крикъ и суматоха продолжались очень долго. Мендель побѣжалъ съ жалобой въ правленіе, но, видно, не имѣлъ тамъ успѣха, потому что немедленно явился на работы. Между жидами начались бурныя пренія, но Яць не обращалъ больше на нихъ вниманія и продолжалъ работу. Недоваренный былъ свидѣтелемъ этой сцены. Злость и упорство жидовъ не предвѣщали ничего добраго.
— Э, это плохое дѣло!—сказалъ онъ, махнувши рукой, и не поздоровавшись съ Яцемъ, поспѣшилъ домой.
Съ этихъ поръ жилище Яця приняло иной видъ. Жилъ онъ вмѣстѣ съ рабочими, копавшими ямы; невѣстка варила имъ пищу.
Часто забѣгали сосѣди выпить водки или такъ себѣ, поболтать и посмотрѣть на работу. Нѣкоторые собирались и у себя начать тоже самое, но ожидали, какъ пойдетъ дѣло у Яця.
А Яць и во снѣ, и на яву только и грезилъ какъ бы дорыться до подземныхъ богатствъ. Онъ огородилъ свою усадьбу, а возлѣ ямъ привязалъ трехъ собакъ, чтобы стерегли отъ жидовскихъ пакостей. При копаньи четырехъ ямъ разомъ четырехъ рабочихъ оказалось недостаточно. Многіе совѣтовали Яцю забросить три ямы и копать только одну; если къ ней покажется нефть, можно будетъ приняться и за остальныя; но Яць и слышать объ этомъ не хотѣлъ. Въ душѣ его въ послѣдніе дни происходилъ переломъ. Казалось, что вся его энергія, всѣ духовныя силы были направлены на одинъ пунктъ—открыть на своей землѣ нефть. Что будетъ потомъ—его не занимало; потомъ,—въ его воображеніи рисовались цвѣтущіе луга, роскошныя поля, безграничное счастье и наслажденіе. Лишь бы только добраться до нефти.
Днемъ и ночью онъ переживалъ ужасныя тревоги. Ну что если мѣсто это нехорошее? Онъ прикладывалъ ухо къ землѣ, прислушивался нѣтъ ли какого шума, принималъ мѣры предосторожности. Часто, вскочивши ночью съ постели, онъ съ толстою палкою въ рукѣ обходилъ ямы. Оказалось, что осторожность была не излишней: жиды нѣсколько разъ подсылали своихъ рабочихъ портить бревна, засыпать ямы, перерѣзывать канаты. Но, благодаря бдительности собакъ и самого Яця, имъ это не удавалось. Какъ любящая мать слышитъ во снѣ плачъ своего дитяти, такъ Яць чуялъ сердцемъ, когда его ямамъ грозила бѣда, и взявши съ собой работниковъ, отражалъ нападеніе. Однажды жидамъ удалось отравить его собакъ, но на свою же бѣду; на другую ночь Яць съ рабочими, укрывшись за заборомъ, схватилъ двухъ жидовъ на мѣстѣ преступленія. Ихъ ввели въ избу и. завязавши имъ головы мѣшками, „сквозь мокрое полотно“*) такъ больно высѣкли ихъ палками, что они закаялись больше ногой ступать во дворъ Яця. Бѣдняги на другой день даже пожаловаться не могли,, потому что послѣ „холодной бани“ доказательствъ не оказалось. Но свое слово сдержали: Яця больше не тревожили.
Ямы вырыли уже въ 10 сажень глубиной, но нефти и слѣдовъ не было. Тогда только замѣтилъ Яць, что изъ его капитала осталось очень мало. Имъ овладѣло ужасное безпокойство. По цѣлымъ ночамъ онъ не спалъ, днемъ ходилъ самъ не свой. Онъ не могъ себѣ даже представить, что придетъ то время, когда онъ долженъ будетъ прекратить работу. Перестать рыть — вѣдь это для него равнялось смерти! А незначительный остатокъ денегъ ясно говорилъ, что эта минута близка, что надо на что нибудь рѣшиться. Поэтому рано, чуть свѣтъ, назначивъ занятія рабочимъ, Яць бросился къ Недоваренному. Онъ засталъ его въ постели; полевыя работы уже окончились, а потому можно было отдохнуть подольше.
— Пане швагре!—не ожидая отвѣта на привѣтствіе, началъ Яць.—Я пришелъ къ вамъ по важному дѣлу.
— По какому? — спросилъ Недоваренный, продолжая лежать.
— Помните вы когда то заинтересовались моими ямами, спрашивали, кого принимаю въ компанію? Дуракъ я былъ тогда, думалъ, что у меня денегъ достанетъ...
— А теперь ты поумнѣлъ, закопавши свои деньги? Да еще и меня хочешь втянуть въ свое глупое предпріятіе! — крикнулъ сердито Недоваренный.—Иди ты изъ хаты, замороко!—Иди, а то велю тебя собаками затравить! Иди къ своему Юдкѣ, котораго ты за 300 римскихъ богачемъ сдѣлалъ, а ко мнѣ не ходи!
— Богачемъ, какимъ богачемъ?—спросилъ Яць.
— Развѣ не знаешь, что Юдка на твоемъ грунтѣ, на Во- лянци, уже четыре ключа кипячки добылъ, цѣлую недѣлю черпаетъ и черпаетъ по сто бочекъ въ день, и еще конца нѣтъ? Видишь, какой твой разумъ? Иди же къ нему, проси его, можетъ быть, пристанетъ къ тебѣ въ компанію, а меня оставь въ покоѣ.
И Недоваренный, не могшій сдержаться отъ злости, отвернулся отъ остолбенѣвшаго Яця на другой бокъ. Тотъ посидѣлъ еще минуту молча и потомъ вышелъ, пошатываясь.
— Боже милый! что это такое дѣлается на свѣтѣ? Развѣ вправду доля прокляла христіанина, а только жидамъ усмѣхается? Ну, ктожь бы могъ подумать, что кладъ былъ для меня не здѣсь, а на Волянци? И что теперь дѣлать?
Горючія слезы текли по щекамъ Яця. Не давая себѣ отчета, что дѣлаетъ, пошелъ онъ на Водянку — посмотрѣть па ту землю, что нанесла такой ударъ его надеждамъ и мечтамъ.
У Юдки работа кипѣла. Двадцать рабочихъ работали у ямъ, доставали нефть, наливали въ бочки, нагружали на телѣги или устанавливали въ большомъ, выстроенномъ на скорую руку сараѣ. Тутъ же бондари сколачивали изъ досокъ бочки, кузнецы обтягивали ихъ обручами, плотники оканчивали сарай — однимъ словомъ, на недавней пустоши стояла цѣлая фабрика. А среди всей этой суматохи метался Юдка, счастливый, веселый и порядочно одѣтый, словомъ совсѣмъ переродившійся. Двадцать другихъ рабочихъ копали новыя ямы.
— Дай Боже счастья!—мрачно сказалъ Яць, протискиваясь сквозь занятую, суетливую толпу.
— Дай Боже!—отвѣтилъ Юдка; потомъ, обернувшись и увидѣвъ Яця, онъ радостно его привѣтствовалъ: А, панъ Зелепуга! Какъ поживаете?
— Скверно поживаю, Юдко! — сказалъ Яць. — Тебѣ вотъ Богъ счастье послалъ, а я твои деньги закопалъ и ничего не имѣю.
— Глубоко докопались уже?—спросилъ тотъ.
— У меня четыре ямы по двадцати сажень.
— А у меня Богъ далъ на шестомъ сажнѣ, — сказалъ Юдка,—на то Божья воля. Нужно и вамъ копать дальше—и у васъ будетъ, навѣрно будетъ.
— И я такъ думаю, что будетъ. Но чтоже, коли не на что копать дальше!
— Не на что? Это скверно!
Юдка задумался. Яць въ это время съ любопытствомъ разсматривалъ поле, которое такъ недавно принадлежало ему и которое онъ не разъ проклиналъ за его безплодіе.—Вотъ же мои проклятія обрушились на меня самого!—упрекнулъ себя Яць и заплакалъ.—Теперь все это могло бы быть моимъ, да Богъ, видно, не захотѣлъ. Поле дало кладъ, да не мнѣ!
— Ну, не печальтесь, Яцю,—сказалъ минуту спустя Юдка.— Можетъ быть Богъ дастъ, что все будетъ хорошо. Знаете, что я вамъ скажу?
— Ну, что такое?
Юдка отвелъ Яця въ сторону за сарай и сказалъ:
— Этотъ грунтъ я купилъ у васъ, пусть васъ Богъ наградитъ за него! Купилъ я его дешево: по 80 римскихъ за моргъ. Знаете, какъ старый лыбакь, я могъ лучше всего знать, гдѣ можно скоро докопаться до кипячки. И я не ошибся. Я могъ бы вамъ сразу дать по сто римскихъ за моргъ, какъ вы хотѣли, но я все таки торговался. Ну что же, — человѣкъ всегда останется человѣкомъ, а при томъ я боялся, что не хватить денегъ на копанье. Теперь другое дѣло. Грѣхъ бы мнѣ былъ, если бы я не помогъ вамъ въ вашей бѣдѣ. Вотъ вамъ еще 80 римскихъ, сверхъ тѣхъ денегъ; какъ вы сами оцѣнили, такъ и даю, что бы вы на меня не пеняли.
Такая доброта жида до глубины души тронула Яця. Хоть и не любилъ онъ „жидовскаго племени“, но въ порывѣ благодарности поцѣловалъ руку, которая подала ему пачку бумажекъ.
— Пусть вамъ Богъ въ сто кратъ воздастъ, Юдко! — сказалъ Яць.—Я вашей доброты до смерти не забуду.
— Только знаете, что я вамъ посовѣтую, Яцю,—сказалъ жидъ. Не разбрасывайте вы этихъ денегъ на четыре ямы. Пока забейте три и копайте только одну, такъ скорѣе до кипячки доберетесь.
На томъ и распрощались. Юдка побѣжалъ къ ямамъ, а Яць, полный надежды, вернулся домой. Хотя ему было тяжело рѣшиться забить ямы, но въ будущемъ у него снова могло не хватить денегъ, а полученныхъ было слишкомъ мало и потому надо было сконцентрировать всѣ силы на одной. Яць забилъ три ямы, оставилъ только двухъ работниковъ, а остальныхъ отпустилъ, разсчиталъ деньги по днямъ и съ лихорадочнымъ волненіемъ высчитывалъ, сколько дней еще можно будетъ работать.
Работать теперь было тяжелѣе. Вмѣсто мягкой глины пошелъ твердый камень, который надо было ломать ломами, такъ какъ заступы здѣсь уже не годились. Въ ямѣ двадцатисаженной глубины не хватало воздуха: надо было купить помпу, которая поглотила много денегъ. Медленно, тяжело шла работа, а нетерпѣніе Яця все больше и больше увеличивалось. Вѣдь каждую минуту одинъ ударъ лома могъ принести ему спасеніе, пробить дорогу къ желанному кладу. Онъ все время оставался въ ямѣ, его на силу вытаскивали оттуда. Ни пить, ни ѣсть онъ не могъ. Ночью онъ прислушивался къ собственному дыханію и съ безумно радостнымъ крикомъ: „Е, е!“ вскакивалъ съ постели и бѣжалъ къ ямѣ и, не видя ничего въ темнотѣ, прикладывалъ ухо къ деревянной, запертой на замокъ дверцѣ (крышкѣ), не услышитъ ли какого шептанья, ропота подземныхъ духовъ. Но все было тихо, духъ молчалъ и не появлялся, несмотря ни на просьбы, ни на проклятья обезумѣвшаго Яця.
— Боже мой!—вскрикнула разъ невѣстка, увидѣвъ его вылѣзавшимъ изъ ямы.—Швагре Яцю! Какъ вы выглядите! На васъ лица нѣтъ!
— Какъ нѣтъ?—разсѣянно спросилъ Яць.
— Вы блѣдный, худой, желтый, хоть въ гробъ клади! Ѣдите ли вы что нибудь?
— Ѣмъ.
— Ну, такъ вы должно быть нездоровы.
— Богъ съ вами, кумо, я здоровъ.
— Ну, то можетъ кто вамъ данне далъ, что вы такъ страшно измѣнились? Или можетъ, не дай Господи, переполохъ?
— Э, басни! Не бойтесь, скоро поправлюсь, только кипячки добуду.
И торопливымъ, невѣрнымъ шагомъ, будто очарованный, Яць шелъ обѣдать съ работниками.
Невѣстка варила имъ у себя дома, но рѣдко сама носила обѣдъ, а чаще присылала свою 14-лѣтнюю дочку съ кобелею*, въ которую ставились горшки. Поэтому неудивительно, что она, не видѣвши долго Яця, не узнала его и справедливо замѣтила, что онъ должно быть боленъ. Но Яць какъ будто ничего не слышалъ. Вся его жизнь, всѣ мысли сосредоточились на одномъ пунктѣ, на ямѣ, этой двадцатисаженной пропасти, которая ее хотѣла выпустить ни одной капли золота.
Для Яця яма обратилась въ существо понимающее и разумное. Въ минуты отчаянія онъ обращался къ ней съ страстными рѣчами, упрекалъ ее въ дружбѣ къ жидамъ, въ нерадѣніи о собственномъ хозяинѣ: не хочетъ она оказать милосердія, справедливости, пусть только вернетъ затраченное на нее. Но яма упорно молчала. Прошла еще недѣля. Яма была уже глубиной въ 22 сажпя, а въ кассѣ Зелепуги оставалось всего 22 крейцера. А яма ни гу-гу. Яць ходилъ точно помѣшанный, на колѣняхъ умолялъ рабочихъ остаться еще и работать въ долгъ. Работники, недовольные плохими харчами и неаккуратной платой, ушли, проклиная Яця на чемъ свѣтъ стоитъ. Яць остался одинъ.
Неужели его послѣднія надежды лопнутъ, какъ мыльные пузыри? Онъ побѣжалъ къ Недоваренному—тотъ затравилъ его собаками, бросился къ Юдкѣ—Юдки не было въ Бориславлѣ, поѣхалъ заключать контрактъ съ дистиллярней для подвоза кипячки и остановилъ работу, заперши ямы и оставивъ сторожа. Будто преслѣдуемый звѣрь бросился Яць къ своей избѣ, но возлѣ двора столкнулся съ Менделемъ. Послѣдній злобно усмѣхался.
— Ну, пане Яцентій, какъ поживаете?—сказалъ жидъ.
— А чтожь?—отвѣтилъ Яць съ глухимъ упорствомъ,— слава Богу, ничто мнѣ не вредитъ.
— Ге, ге, ге!—сухо замѣтилъ жидъ.—Ничто вамъ не вредитъ? Нѣтъ, нѣтъ, слава Богу! А что не продадите мнѣ своихъ закоповъ?
— Нѣтъ, теперь еще не продамъ.
— А когда же продадите?
— Когда время придетъ.
— А когда же время придетъ?
— А это увидимъ.
И Яць направился къ избѣ.
— Слушайте, пане Яцентій,—сказалъ Мендель,—безъ шутокъ вамъ говорю. Къ чему вамъ всѣ бѣды, хлопоты и расходы?
Видите, тотъ грунтъ продали вы Юдкѣ? Теперь Юдка богачъ, а вы закопали деньги въ ямы и ничего не имѣете. Бросьте вы эту работу! Это не хлопская работа. Я вамъ дамъ за каждый закопъ по сто римскихъ, и нащо вамъ топоту на здорову голову? Хватитъ на вашъ вѣкъ.
Зелепугѣ кровь ударила въ голову, эти слова уязвили его болѣе, чѣмъ злая насмѣшка, можетъ быть потому, что въ душѣ онъ сознавалъ, что Мендель говоритъ правду.
— Иди ты отъ меня, жиде, къ чорту!—крикнулъ взбѣшенный Яць.—Иди, коли не хочешь получить камнемъ въ лобъ.
— Ну, что это такое? Камнемъ въ лобъ? А это за что? Ты дурню, гой смердяче! Думаешь, что я тебя боюсь и что твои закопы больше стоятъ? Подожди, еще самъ ко мнѣ придешь и будешь просить, чтобы я купилъ эти дыры.
— Не дождешься этого, парху!—крикнулъ Яць.—Скорѣе самъ найду въ нихъ свою смерть!
И, надвинувши на лобъ шапку, дрожа отъ злости, побѣжалъ Яць къ невѣсткѣ, которая варила ему пищу.
Та теперь въ самомъ дѣлѣ перепугалась.
— Всякое дыханіе да хвалитъ Господа!—вскрикнула она,— куме швагре! что съ вами такое? Гонится кто за вами? Или, можетъ быть, несчастье какое?
Яць даже не обратилъ вниманія на ея возгласы. Въ безсиліи упалъ онъ на скамью и не переводя духа заговорилъ:
— Кумо ятровка! На васъ одна моя надежда! Деньги у меня вышли, работники меня покинули, а яму копать надо. Хочу докопаться кипячки. Скорѣе пропаду, а не покину этого дѣла. Поможешь мнѣ, кума? Я же не для себя работаю! Какъ что будетъ, то будетъ и вамъ и дѣтямъ вашимъ. Идите сами, у васъ дивчина уже въ силахъ, обѣ станете до корбы, меньшой хлопецъ можетъ млынкуваты, а я полѣзу въ яму, буду копать пока силы станетъ. Чую я, что уже недолго. Нѣсколько разъ копнуть. Кто знаетъ? Можетъ быть нужно только разъ въ счастливое мѣсто ударить... Не откажите мнѣ, кумочко!
Женщина остановилась пораженная. Не такъ ее удивила самая просьба Зелепуги, какъ тонъ его голоса, просящій, мягкій. Съ минуту она колебалась. Вѣдь кромѣ двухъ старшихъ дѣтей, у нея было еще трое, которые требовали постояннаго присмотра. Что съ ними дѣлать?
Яць догадался въ чемъ дѣло.
— И о тѣхъ меньшихъ не безпокойтесь. Возьмите ихъ въ мою хату, тамъ они будутъ близко отъ васъ. Вы спустите меня въ яму и будете имѣть съ полчаса свободнаго времени, пока я что нибудь накопаю, а дѣти будутъ въ это время млынокъ крутить.
Та все еще не рѣшалась. Яць, обливаясь слезами, бросился ей въ ноги.
— Кумо швагрова!—молилъ онъ, обнимая ея колѣни.— Богомъ васъ заклинаю, не отказывате мнѣ! Не отказывайте, а не то съ ума сойду! Чувствую я, что при одной мысли бросить эту работу какой то недобрый духъ овладѣваетъ мною и я готовъ надѣлать бѣды, великой бѣды!
— Богъ съ вами!—крикнула испуганная женщина, поднимая плачущаго Яця.—Что за страшныя рѣчи вы говорите, пускай Богъ заступитъ и спасетъ! Успокойтесь, еще все будетъ хорошо! Всѣ пойдемъ, будемъ копать, будемъ Богу молиться, можетъ Богъ смилуется надъ нашею недолею и пошлетъ намъ свой великій даръ. Только не убивайтесь!
— Награди васъ Боже! Награди Боже!—шепталъ Яць, всхлипывая какъ ребенокъ. — Я спокоенъ, совсѣмъ спокоенъ, только силъ какъ то нѣтъ, ко сну меня клонитъ...
— Засните, засните, вамъ лучше будетъ. А то, Боже мой, вы выглядите паче зъ хреста зняты.
Она уложила Яця на соломѣ, покрытой грубымъ рядномъ. Яць тотчасъ же заснулъ глубокимъ сномъ, точно убитый. Невѣстка подумала даже, не пьянъ ли онъ, но приблизившись къ нему, она не почувствовала запаха водки.
— Бѣдняга!— вздохнула она.— Такъ его эта проклятая кипячка одолѣла, что дальше ему уже и дышать будетъ не въ мочь. Боже милосердый! заступи его отъ всякаго несчастья. Скорѣе моему поганину попусти сломать себѣ шею, чѣмъ этой доброй душѣ.
Спалъ Яць долго, но тревожно. Нѣсколько разъ ночью онъ вскакивалъ, прислушивался, кричалъ во снѣ: „Е, е!“ и снова безсильно падалъ на постель. Но все же на другой день онъ былъ бодрѣе и помогалъ хозяйкѣ укладывать и переносить ея бѣдные пожитки.
Что то тянуло его къ ямѣ. Онъ бѣгомъ пустился къ своему дворищу, по дорогѣ бросилъ все и побѣжалъ заглянуть въ ямы, не показалась ли за ночь кипячка. Черезъ часъ онъ вернулся мрачный и недовольный.
— Пусто, нѣтъ ничего! Но я знаю, что скоро, скоро будетъ! Должно быть! Развѣ... Развѣ ужъ милости Божіей надъ нами нѣтъ...
— Бойтесь Бога, что это вы говорите! — вскрикнула невѣстка.—Даже слушать страшно!
— Я уже самъ не знаю, что говорю,—сказалъ Яць, опуская голову.—Но пойдемъ, пойдемъ на работу! Нужно спѣшить! Чувствую, что меня что то тревожитъ, какъ будто смерть моя уже близко, а мнѣ передъ смертью нужно сдѣлать что то великое.
Она ничего не отвѣтила, только перекрестилась при послѣднихъ словахъ. Она ясно видѣла, что съ Яцемъ творится что то неладное, но чѣмъ она могла помочь? Только на ходу она шептала молитву. Вмѣстѣ со старшей дочерью стала она къ машинѣ и потихоньку, осторожно спустила Яця въ яму, хотя тотъ изъ глубины постоянно кричалъ: „скорѣе, скорѣе!“ Старшій сынъ изо всѣхъ силъ накачивалъ свѣжій воздухъ.
Опустивши Яця, она пошла въ хату, оставивъ дѣтей однихъ. Потомъ Яць нашелъ способъ обходиться и безъ ея помощи. Онъ самъ на особенномъ канатѣ вытаскивалъ вверхъ ведро, дѣти высыпали изъ него накопанную глину и снова опускали внизъ Яць придумывалъ всевозможныя средства, чтобы дѣти не упали въ яму. Объ этомъ мать не безпокоилась. Работа подвигалась. Яць работалъ черезъ силу, отбивая заостреннымъ молоткомъ куски камня. Ведро за ведромъ вытаскивалъ онъ вверхъ, не заботясь о свѣжемъ воздухѣ, такъ какъ дѣти работали исправно. Если бы показалась нефть, Яць рѣшилъ не ждать, пока дѣти призовутъ мать, а самому выкарабкаться по брусьямъ на нѣсколько сажень и тамъ уже ждать, такъ какъ вдругъ выступившая нефть могла его залить и задушить. Но нефть не показывалась. Яць послѣ долгой работы страшно ослабѣлъ, чувствовалъ острую боль въ поясницѣ, ему не хватало свѣжаго воздуха, въ вискахъ стучало и голова кружилась.
— А что, можетъ быть, обморокъ предвѣщаетъ кипячку?— подумалъ обрадованный Яць и дернулъ три раза за шнурокъ отъ звонка. Это было знакомъ для дѣтей звать мать и тащить его наверхъ.
— Ну что? Есть, будетъ?—спрашивала нетерпѣливо невѣстка, когда Яць, стоя въ ведрѣ, показался изъ темныхъ нѣдръ ямы.
— Слава Богу, кажется, что будетъ, —отвѣтилъ Яць, тяжело дыша и съ трудомъ вылѣзая.
Его отвязали, повели домой, накормили и онъ легъ спать. Но надежда оказалась преждевременной. Воздухъ былъ удушливъ, но нефть не показалась. Безпокойство и ожиданіе Яця усилились. Отдохнувши немного, онъ сталъ настаивать, чтобы его снова опустили въ яму, но невѣстка ни за что не соглашалась на это.
— Сами себя замучите, куме!—говорила она. —Отдохните лучше, соберитесь съ силами. Яма не убѣжитъ.
— Нѣтъ, нѣтъ, надо кончить скорѣе!—настаивалъ Яць.— Что вамъ изъ того, что вы будете меня мучить? Вѣдь я и такъ не могу ни сидѣть, ни лежать на одномъ мѣстѣ. Лучше спустите меня въ яму.
Она едва упросила его подождать до полудня. Такъ прошло два дня. Яць за эти дни постарѣлъ на десять лѣтъ, сгорбился, посѣдѣлъ, лицо его покрылось морщинами. Только сѣрые глаза его горѣли огнемъ, а энергія не только не уменьшалась, но росла съ каждымъ днемъ. Сонъ совсѣмъ покинулъ его. Только днемъ, утомленный работой, онъ засыпалъ на минуту.
Вдругъ на третій день случилось несчастье, котораго онъ наименѣе ожидалъ. Въ полдень, когда Яць съ дѣтьми только что пообѣдалъ, а хозяйка разостлала солому, чтобы Яць могъ отдохнуть, влетѣлъ въ избу шуринъ-пьяница.
— А, вотѣ гдѣ нахожу свою жиночку!—крикнулъ онъ, и, не говоря больше ни слова, ударилъ остолбенѣвшую жену кулакомъ такъ сильно, что та, обливаясь кровью, упала на землю.
Цѣлый часъ въ хатѣ свирѣпствовала буря. Раздавались удары, слышенъ былъ плачъ и крикъ дѣтей, стоны женщины, трескъ разбиваемой посуды и вопли Яця Досталось довольно и на долю Яця, но тотъ съумѣлъ оборониться и далъ шурину нѣсколько удачныхъ тумаковъ, которые значительно охладили пылъ нападающаго.
Побоище окончилось и наступило печальное прощанье. Бѣдная женщина, забравъ своихъ дѣтей и все добро, простилась съ гостепріимнымъ жилищемъ Яця. Мужъ ея, проклиная все и всѣхъ, плелся позади плачущаго и избитаго семейства. Яць остался одинъ, безъ силъ, безъ средствъ, безъ надежды...
Что это такое было? Откуда налетѣла эта буря? Былъ ли это страшный сонъ или дѣйствительность?—Этого онъ не зналъ. Онъ чувствовалъ только шумъ въ головѣ и страшную боль во всемъ тѣлѣ; глаза закрывались, сознаніе терялось. Не помня когда и какъ, Яць заперъ дверь и заснулъ на соломѣ посреди хаты.
Проснулся онъ на зарѣ. Свѣтало. Яць поспѣшно всталъ, съ трудомъ припоминая, что съ нимъ было и что ему нужно дѣлать. Первой мыслью его было: нѣтъ ли чего въ ямѣ? Онъ бросился за кожухомъ и только теперь ясно представилось ему его положеніе.
— Боже мой! Вѣдь я теперь одинъ одинехонекъ, какъ былина въ полѣ. Что же мнѣ дѣлать?
Въ нѣмомъ ужасѣ стоялъ бѣднякъ, ломая руки. Ему казалось, что онъ летитъ въ бездонную пропасть и напрасно старается ухватиться за что нибудь. Но источникъ его надеждъ еще не былъ исчерпанъ. Въ его больной фантазіи начали рисоваться самыя счастливыя перемѣны судьбы; на одномъ незначительномъ словѣ, „а можетъ“ строились воздушные замки. Упоенный этими фантазіями, Яць натянулъ на себя кожухъ, взялъ лампу и пробный камень, привязанный къ шнурку, и пошелъ къ ямѣ. Онъ шелъ или вѣрнѣе бѣжалъ, подталкиваемый какою то невидимою силой. Отворилъ дверцы, заглянулъ въ яму—темно. Спустилъ шнурокъ съ камнемъ, камень нескоро упалъ съ легкимъ стукомъ на сырое каменистое дно. Яць вытянулъ его. камень былъ сухъ, нефти не было и слѣда. У Яця опустились руки.
Теперь только почувствовалъ онъ свою безпомощность, свое безсиліе. Къ чему были его труды, мученія? Къ чему зарылъ онъ въ эти проклятыя ямы все, что имѣлъ: здоровье, силу, деньги? Видно, доля не для всѣхъ одинакова: то, что Юдкѣ достается легко, для него недостижимо, какъ для маленькаго червяка. Отчего такая ужасная несправедливость? Яць чувствовалъ, что что то бурлитъ въ его груди, подступаетъ къ горлу, спираетъ дыханіе... Съ минуту стоялъ онъ, нѣмой, полуживой, посинѣвшій, словно боролся съ невидимымъ врагомъ; потомъ онъ упалъ на землю, грызъ ее зубами, билъ кулаками и кричалъ безумнымъ голосомъ:
— На, на тебѣ, проклятая! Вотъ тебѣ, измѣнница!
Утомленный онъ лежалъ нѣсколько мгновеній, потомъ поднялся на колѣни и, обращаясь къ сѣрому, покрытому тучами небу, крикнулъ:
— Боже. Боже! Въ чемъ я виноватъ передъ тобою? За что ты меня такъ тяжко караешь? На долю жидовъ, пьявокъ людскихъ, выпадаетъ добро, а на мою долю одно горе! Боже, Ты все видишь! Неужели эго Твоя святая воля?
Онъ притихъ, тяжело переводя духъ, облегченный, будто тяжелый камень спалъ съ его плечъ. Онъ не успокоился, только нервы его на минуту отупѣли отъ чрезмѣрныхъ страданій.
— Что же мнѣ, несчастному, дѣлать? Съ чего начать?— плаксиво причиталъ онъ, присѣвъ на землю и обхвативъ голову руками.—Кинуться ли стремглавъ въ эту проклятую яму и положить конецъ своему житью? Вѣдь ничего лучшаго мнѣ уже не остается? Ой земле, матинко, прими меня къ себѣ, пусть я не буду больше здѣсь мучиться!
И обливаясь слезами, съ распростертыми руками, Яць припалъ къ землѣ и замеръ. Только вздрагиванье тѣла показывало, что это не трупъ, а живой человѣкъ.
Вдругъ онъ вскочилъ, точно ужаленный. Что это? Сонъ? Или игра его больной фантазіи? Сознаніе его притупилось, обезсилѣло. Но нѣтъ, то не воображеніе. Яць дрожалъ съ головы до ногъ въ неописанномъ безпокойствѣ. Долго стоятъ онъ, протирая глаза; потомъ схватилъ пробный камень и спустилъ. И снова камень съ глухимъ стукомъ упалъ на сухое дно. Яць вытянулъ его, осмотрѣлъ. Сухой! Значитъ, и на этотъ разъ обманъ! Значитъ, то бурчанье, которое онъ слышалъ такъ ясно, когда лежалъ на землѣ было обманчиво, было диковинной насмѣшкой судьбы надъ его несчастьемъ! Будь проклята доля! Прощай свѣтъ! Прощай горькое житье!
Яць сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ, чтобы разогнаться и прыгнуть въ яму. Но что это? Едва удалился онъ отъ ямы, какъ услыхалъ то же самое тихое бурчанье. Онъ напрягъ слухъ... Такъ и есть. Бурчанье не было созданіемъ его фантазіи. Яць сдѣлалъ еще шага два назадъ—слышно яснѣе. Въ ту же самую минуту ему ударилъ въ носъ крѣпкій запахъ нефтяныхъ паровъ. Что же это? Откуда? Онъ оглянулся кругомъ. Боже! Вѣдь онъ стоитъ возлѣ старой, забитой и заложенной дерномъ ямы.
Однимъ прыжкомъ Яць былъ на самой ямѣ. Густой туманъ паровъ поднимался изъ подъ дерна и громкое бурленье подъ землей убѣдило его, что цѣль его достигнута, кладъ найденъ тамъ, гдѣ онъ наименѣе ожидалъ его.
Но Яць еще не вѣрилъ самъ себѣ. Дрожа, снялъ онъ кожухъ и, стоя на колѣняхъ, началъ срывать дернъ, разбрасывать глину и руками вытаскивать брусья, которыми была забита яма. Съ лихорадочною поспѣшностью, собравъ послѣднія силы, онъ отвалилъ одинъ брусъ. Солнце, поднявшееся невысоко надъ землей, искоса заглянуло въ яму; его лучи, какъ въ зеркалѣ, отразились на черной металлической поверхности нефтяной гущи, которая наполняла яму до краевъ.
Что Яць въ эту минуту не сошелъ съ ума и не упалъ отъ радости въ яму—было чудомъ. Очевидно, онъ самъ почувствовалъ, что съ нимъ можетъ случиться что нибудь подобное. Облитый холоднымъ потомъ, онъ отскочилъ въ сторону отъ темнаго отверстія ямы, будто искалъ безопаснаго мѣста, заглянувъ такъ близко въ глаза страшной загадкѣ бытія. Но минута остолбенѣнія прошла; Яць бросился къ другой ямѣ, раскопалъ ее, открылъ—полна! Къ третьей—тоже самое! Значитъ, не пустыми были тѣ сны, въ которыхъ ему постоянно что то шептало: есть, есть желанный кладъ! Только его собственная слѣпота причинила ему столько мукъ. А тѣ проклятія, укоры судьбѣ, не палили они на его собственную голову?
Но нѣтъ! Прочь черныя мысли! Цѣль достигнута! Кладъ найденъ! Цѣною здоровья, страданій, мученій, униженій, но найденъ! Что съ нимъ теперь дѣлать? Объ этомъ Яць не думалъ: дальше видно будетъ.
Заранѣе, въ безсонныя ночи онъ обдумалъ все дѣло, и теперь побѣжалъ прямо къ Мендлю. Онъ засталъ жида торгующимся съ работниками. Не поздоровавшись, не говоря ни слова, онъ схватилъ Мендля за плечи и потащилъ за собою.
— Ны, что это такое?—кричалъ Мендель.—Яцю, вы съ ума сошли? Чего вы хотите отъ меня?
— Иди, иди!—охрипшимъ, запыхавшимся голосомъ отвѣчалъ Яць, не выпуская его изъ рукъ.
— Куда? Зачѣмъ?—спрашивалъ Мендель.
— Иди, иди, самъ увидишь!—вопилъ Яць и тащилъ его далѣе, спотыкаясь о груды глины и камни и не обращая на это вниманія. Мендель сначала упирался, но Яць не пускалъ его. Потомъ жидъ догадался, что вѣроятно случилось что нибудь особенное, и пошелъ охотно. Яць ускорилъ шагъ. Перегоняя другъ друга, они подошли къ первой ямѣ.
— Ади!
Еще Мендель не пришелъ въ себя, а Яць уже тянулъ его къ другой.
— Ади!
И снова дальше къ третьей ямѣ.
— Ади!
Мендель остолбенѣлъ.
Яць, обезсиленный, упалъ на землю, тяжело переводя духъ, не будучи въ состояніи сказать и двухъ словъ. Добрые полчаса продолжалось молчаніе.
— Ну, и чтожь?—сказалъ наконецъ Мендель, обращаясь къ Яцю.
— Купи! отвѣтилъ коротко тотъ.
— А сколько хотите?
— Милліонъ!
— Опомнитесь, Яцю! Что вы говорите? Кто вамъ дастъ милліонъ?
— Ты дашь.
— Да знаете ли вы, что такое милліонъ? Сколько это денегъ?
— Знаю, что много. А какъ буду имѣть ихъ въ рукахъ, то и посчитать ихъ съумѣю. А ты думалъ, что я тебѣ даромъ отдамъ?
— Я не хочу даромъ, а говорите человѣческую цѣну?
— Милліонъ.
Жидъ засмѣялся.
— Ну что съ нимъ говорить? Заучилъ на память одно слово и твердитъ. Вѣдь откуда же, Яцю, я вамъ возьму милліонъ?
— Это твое дѣло.
— А что же вы съ нимъ сдѣлаете?
— Это мое дѣло.
Жидъ снова захохоталъ. Но вдругъ счастливая мысль пришла ему въ голову. Онъ сразу сдѣлался серьезнымъ.
— Ну, знаете что, Яцю?—сказалъ онъ, приближаясь.— Вижу, что вы не такой человѣкъ, чтобы съ вами шутить, пускай будетъ Божья воля. Дамъ вамъ милліонъ за ваши ямы.
— Я такъ и зналъ, что дашь,—спокойно отвѣтилъ Яць.
— Но уже за всѣ четыре?
— Разумѣется.
— И за весь остатокъ грунту?
— А то какъ же?
— Такъ идти за писаремъ и свидѣтелями?
— Иди!
Въ полдень хата Яца была наполнена народомъ. Мендель велѣлъ поставить наскоро сколоченные столы и лавки. На нихъ усѣлось не мало людей: жиды, мужики—это были свидѣтели. А новые все прибывали.
Въ Бориславлѣ быстро разнеслась вѣсть, что Зелепуга вырылъ три ямы нефти и продаетъ жиду за милліонъ. Жиды улыбались, крестьяне вздыхали, крестились и думали о томъ, что будетъ дѣлать съ такими большими деньгами одинокій, старый, ошеломленный Яць. И всѣ сбѣгались къ его хатѣ, разсчитывая на угощеніе.
Всѣ собравшіеся притихли. За столомъ сидѣли: староста, старшій церковный братъ и присяжный*—это были главные свидѣтели. Панъ писарь только что окончилъ составленіе контракта и крякнулъ въ знакъ того, что желаетъ начать чтеніе. Яць стоялъ противъ писаря, желтый, какъ воскъ, съ пылающими глазами и смотрѣлъ на него въ упоръ.
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь!—началъ рѣзкимъ голосомъ писарь и всѣ присутствовавшіе крестьяне набожно перекрестились.—Я нижеподписавшійся владѣлецъ Яць Зелепуга, въ присутствіи свидѣтелей: пана войта* бориславскаго Якима Дуригроша, пана присяжнаго Олексы Бовши и пана старшаго брата Гриця Тумана, заключаю съ присутствующимъ здѣсь Менделемъ Лямпенлихтомъ слѣдующее условіе: продаю я Мендлю землю мою отцовскую, граничащую съ землей того же Мендля, мѣрою два морга, вмѣстѣ съ находящимися на ней нефтяными ямами и передаю эту землю тутъ же, при свидѣтеляхъ, упомянутому Мендлю въ вѣчное и потомственное владѣніе. А Мендель обязуется до принятія во владѣніе земли уплатить мнѣ при тѣхъ же свидѣтеляхъ цѣну покупки— милліонъ... валюты австрійской...
— Чего, чего?—прервалъ чтеніе Яць.
— Валюты австрійской,—повторилъ писарь.—Это значитъ, денегъ австрійскихъ, цесарскихъ, понимаете?
— А, понимаю! Ну, это само собою разумѣется, иными деньгами я не принимаю. Ну, читайте дальше!
Дальнѣйшее чтеніе окончилось скоро. Контрактъ, разумѣется, и Яць, и свидѣтели подписали, поставивъ вмѣсто имени и фамиліи крестъ.
Тогда: выступилъ Мендель и выложилъ на столъ цѣлый мѣтокъ денегъ, развязалъ его и началъ вынимать пачки ассигнацій. Каждая пачка состояла изъ мелкихъ бумажекъ— шустакивъ * или гульденовъ, перевязанныхъ ниткой.
— Тутъ сто, тутъ сто, тутъ сто!—машинально произносилъ жидъ, бросая ихъ одну на другую, такъ что у многихъ даже духъ захватило. Наконецъ, онъ опорожнилъ мѣшокъ.
— Вотъ вамъ вашъ милліонъ, пане Яцю!—сказалъ Мендель, свысока поглядывая на него.
Яць стоялъ ошеломленный. Столько денегъ онъ не видѣлъ за всю свою жизнь, а теперь все это принадлежало ему.
— Гм... А кто знаетъ, хорошо ли это посчитано?—сказалъ онъ, опомнившись.—Надо бы пересчитать.
— Я присягну, что хорошо считано,—отвѣтилъ Мендель.— Ну, вы можете себѣ не вѣрить, это ваше дѣло, только что милліонъ не такъ легко пересчитать, какъ вамъ кажется. А чтобы вы на меня не претендовали, что я васъ обманулъ, я вамъ скажу вотъ что: положите эти деньги въ мѣшокъ и запечатаемъ ихъ при свидѣтеляхъ, и пусть назначатъ кого угодно изъ громады, чтобы помогъ вамъ пересчитать. А если хоть одного римскаго не хватитъ, то я обязываюсь за одинъ дать вамъ десять.
— Хорошо, хорошо!—закричали свидѣтели.—Вотъ видно, что честный жидъ, не хочетъ вашей кривды, пане Яцю!
— Согласенъ на это, но мѣшокъ съ деньгами долженъ остаться въ моихъ рукахъ.
— А конечно!—подхватилъ Мендель.—Вѣдь деньги ваши!
И быстро сложивши всѣ пачки въ мѣшокъ, Мендель запечаталъ его съ обѣихъ сторонъ большой громадской печатью, которую войтъ всегда носилъ при себѣ, въ голенищѣ.
— Ну, это дѣло кончено, куме Яцю! Теперь ваша очередь сдать Мендлю землю и ямы. Всѣ встали и вышли изъ хаты. Вручивши землю Мендлю, Яць успокоился. Началось угощеніе и на жида посыпались благодарности за его гостепріимство. Угощеніе затянулось до поздней ночи. Только панъ писарь, отдавъ жиду контрактъ и пошептавшись съ нимъ о чемъ то въ сѣняхъ, ушелъ до начала попойки. У него сегодня было еще много дѣла, къ тому же онъ чувствовалъ угрызенія совѣсти. Правда, что онъ хорошо заработалъ: сверхъ обычныхъ пяти римскихъ „видъ руки“, онъ получилъ еще отъ Мендля сто римскихъ за самую пустую мелочь.
Но чортъ его знаетъ, не выйдетъ ли изъ этого что нибудь крупное? Вѣдь дѣло идетъ объ очень большихъ суммахъ. Мендель увѣрялъ его, что тутъ нечего бояться, на то онъ и свидѣтелей такъ много собралъ, всѣ были трезвы, слѣдовательно о подложности документа никому и въ голову не придетъ, такъ что даже и у нотаріуса не надо его свидѣтельствовать. Да, если бы все это было такъ! Но вѣдь лыхо не сныть, а жиду развѣ можно повѣрить!
Несмотря на увѣренія Мендля, панъ писарь былъ неспокоенъ и поспѣшилъ уйти оттуда, гдѣ изъ-за сто-гульденовой бумажки допустилъ такую... бездѣлицу. Вся механика состояла вотъ въ чемъ: между словами „милліонъ" и „валюты" въ контрактѣ онъ написалъ, а при чтеніи пропустилъ одно единственное слово „крейцеровъ". Правда, это одно словцо изъ громкаго милліона дѣлало десять тысячъ гульденовъ, ну, да и этого слишкомъ много для такого глупаго мужика, какъ Яць,— думалъ писарь. Едва ли и съ такой суммой онъ справится. А между тѣмъ Яць торжествовалъ, что имѣетъ милліонъ. Что съ нимъ сдѣлать—объ этомъ будетъ время подумать завтра, послѣзавтра. Теперь же счастье въ его рукахъ. Этотъ мѣшокъ съ деньгами—основа всѣхъ его надеждъ. Милліонъ! Вѣдь это огромное состояніе, о которомъ только въ сказкѣ говорится.
Была уже глубокая ночь, когда отъ Яця вышли послѣдніе гости—войтъ, присяжный и старшій братъ. За ихъ здоровье Яць долженъ былъ выпить нѣсколько чарокъ сладкой водки, которую жидъ принесъ по уходѣ прочихъ. И самъ Мендель, отдавъ Яцю остатокъ водки, простился съ нимъ и пошелъ домой.
Когда всѣ гости разошлись, Яць почувствовалъ себя такимъ счастливымъ, здоровымъ, какъ никогда. Какая то пріятная теплота разлилась у песо но всему тѣлу. Не осталось и слѣда недавней горячки. Онъ сидѣлъ на скамьѣ, облокотившись на столъ и сжимая въ своихъ объятіяхъ осуществившіяся мечты — милліонъ, который лежитъ вотъ тутъ въ запечатанномъ мѣшкѣ. Яць улыбался и произносилъ какія то несвязныя слова, старался что то припомнить и не могъ. Наконецъ онъ вспомнилъ, что надо запереть дверь, но не имѣлъ уже сидъ встать.
— Э, что тамъ двери!—подумалъ онъ.—У меня милліонъ, милліонъ!
И при послѣднихъ словахъ онъ склонилъ голову на мѣшокъ и заснулъ. На стулѣ, противъ Яця, стоялъ каганецъ, напрасно силившійся заглянуть ему въ глаза своимъ колеблющимся свѣтомъ.
Вдругъ, нѣсколько минутъ спустя, тихо отворилась дверь и, осторожно ступая босыми ногами, вошелъ Мендель.
Онъ подошелъ къ спящему, осмотрѣлъ его и, спокойно поднявъ его локти, вынулъ мѣшокъ, всунувъ вмѣсто него лежавшее тутъ же круглое полѣно.
Съ мѣшкомъ подъ мышкой онъ направился къ двери, но тотчасъ же вернулся, взялъ со стола каганецъ и поставилъ его на землю, гдѣ со вчерашняго дня лежалъ разостланный снопъ соломы. Куча соломы лежала и подъ скамьей, на которой сидѣлъ Яць.
— Такъ лучше будетъ,— прошепталъ жидъ. — Слѣда не останется.
И онъ поспѣшно вышелъ изъ хаты, замкнулъ въ сѣняхъ переднія двери, потомъ направился къ заднимъ, вышелъ на дворъ и засунулъ задвижку при помощи шнурка, привязаннаго къ ней и протянутаго сквозь дырку въ стѣнѣ наружу. Засунувъ задвижку, Мендель оборвалъ шнурокъ, такъ что каждому казалось, будто дверь заперта изнутри. Потомъ онъ исчезъ во тьмѣ.
— Осторожнѣе съ огнемъ!—кричалъ протяжнымъ голосомъ сторожъ, проходя по улицамъ. Вдругъ онъ взглянулъ на хижину, что стояла шагахъ въ ста въ сторонѣ отъ дороги.
— Что это тамъ старый хрѣнъ дѣлаетъ?—подумалъ онъ.— Неужели печь топитъ въ такую позднюю пору?
Но въ ту же минуту мысли его были прерваны.
Сильный свѣтъ, который наполнялъ жилище Яця, вдругъ прорвался огненными кровавыми языками на крышу сквозь окна и двери, охвативъ всю избу, запылавшую, какъ восковая свѣча.
— Горитъ, горитъ!—закричалъ во все горло сторожъ и побѣжалъ къ колокольнѣ, чтобы ударить на пожаръ.
На другой день толпа снова стояла у жилища Яця Зелепуги, но вмѣсто хаты было только черное пепелище. Одна глиняная четырехугольная печь бѣлѣлась среди печальныхъ руинъ. Изъ подъ нея вытащили на половину обгорѣвшій трупъ Яця. Очевидно, покойный, проснувшись среди огня, хотѣлъ спрятаться подъ печь, но не успѣлъ этого сдѣлать. Онъ влѣзъ только до половины; ноги и нижняя часть туловища сдѣлались жертвой огня. Зато лицо, прижатое къ землѣ, и руки были невредимы. Въ рукахъ, вмѣсто мѣшка съ деньгами, Яць держалъ толстое полѣно.
— Несчастный!—думали люди.— Вѣрно задремалъ надъ деньгами и столкнулъ каганецъ со стола на солому, а когда проснулся, то въ безпамятствѣ, вмѣсто того, чтобы спасать деньги, схватилъ полѣно. А деньги всѣ сгорѣли. Такъ видно самъ Богъ не давалъ ему счастья съ этимъ кладомъ!
А трупъ Зелепуги лежалъ среди двора, сжимая и послѣ смерти полѣно такъ сильно, что его съ трудомъ могли вынуть. Его посинѣвшее лицо съ выраженіемъ испуга было обращено къ небу и казалось, будто сквозь судорожно стиснутые зубы вотъ-вотъ вырвется горькая жалоба.
Миронъ.
________________
* Лыбаками въ Бориславлѣ называются тѣ, которые при помощи конскихъ хвостовъ, собираютъ съ поверхности воды, выступающую, на ней „кипячку“ — нефть, идущую на подмазку возовъ
* Такой способъ практикуется, чтобы не оставалось слѣдов
* Кошъ, корзина, плетеная изъ тростника
* Десятскій.
* Староста
* 10 крейцеровъ. Прежде были бумажные, теперь серебряные
[Кіевская старина, 1890, т. 30, кн. 6; 427—451]
10.09.1890